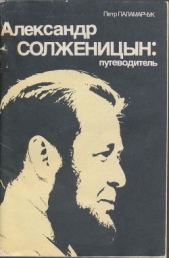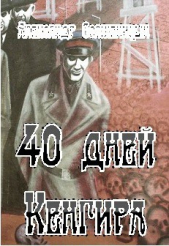Газета День Литературы # 87 (2004 11)

Газета День Литературы # 87 (2004 11) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хотели построить рай? Построили. Железобетонный. Впервые мелькают в стихах осколочным разлетом допотопности: "какая-то отчизна", "загадочная Русь"… Все это химеры, реально другое:
Я, изгнанница из пустыни,
Допиваю последний портвейн.
Властвуют в мире отныне
Ленин и Эйнштейн.
Вот уже и имена-эмблемы различимы на стенах инженерного проекта, заполняющего пустоту и смиряющего мировой хаос.
Хаос литературный тоже смиряется — рифмами:
"Печален", "идеален", "спален" —
Мусолил всяк до тошноты.
Теперь мы звучной рифмой
"Сталин"
Зажмем критические рты…
А это уж вовсе самоубийственно: поминать вождя всуе. Мандельштаму за такое будет ссылка в Чердынь. Кажется, Баркова не ведает, что творит. А может, ведает? Ей, при ее темпераменте — как смириться с леденящим инженерным проектом? Ей, сгорающей от внутреннего жара, — как быть, когда водой заливает трюм? Плясать на палубе? Ей, амазонке, дикарке, веселой грешнице?
Слепцы, очки наденьте!
Весь мир — эксперимент.
А ты в эксперименте —
Танцующий момент.
Граненым алмазом врезается это четверостишие в историю русской лирики. А автор ждет свершения своей судьбы. "Все вижу призрачный и душный, и длинный коридор. И ряд винтовок равнодушных, направленных в упор…". Далеки эти цели от тех зоревых звезд, что зажглись десятилетие назад над ивановской хлябью. "Команда… Залп… Паденье тела. Рассвета хмурь и муть. Обычное простое дело, не страшное ничуть". Опыт судебного хроникера корректирует поэтическую ткань. "Уходят люди без вопросов в привычный ясный мир. И разминает папиросу спокойный командир". Последний взгляд в сторону пьянящей молодости и — вот он, новый пейзаж отрезвленной души: "Знамена пламенную песню кидают вверх и вниз. А в коридоре душном плесень и пир голодных крыс".
Анну Баркову берут под стражу после убийства Кирова — в декабре 1934 года. В марте 1935 из Бутырского изолятора она пишет наркому внутренних дел письмо с просьбой не ссылать ее, а "подвергнуть высшей мере наказания" — расстрелу. Нарком Ягода, дрогнув, накладывает на письме резолюцию: "Не засылайте далеко".
Ее засылают в Карлаг.
Сбывается пророчество: сквозь решетку вагонзака она видит азиатскую степь.
Дальнейшие круги — в преисподней.
Коченея по ночам в промозглом бараке и вкалывая от шмона до шмона то в прачечной, то в пошивочной, а также пася овец, варя баланду и выпалывая сорняки в лагерном огороде, вчерашняя пламенная бунтарка спасается музыкой слов. И взлетает поэзия ввысь:
Степь да небо, да ветер дикий,
Да погибель, да скудный разврат.
Да. Я вижу, о Боже великий,
Существует великий ад.
Только он не там, не за гробом,
Он вот здесь, окружает меня
Обезумевшей вьюги злоба,
Горячее смолы и огня.
Терзает мысль: за что?
Есть за что. За склонность к мятежу. За то, что была на колеснице (а теперь — под колесом). За то, что верила в разум (ничего разум не дает, а требует многого). За то, что возвышала человека (и зря: человеческая природа коварна).
Всего этого лучше бы не знать. Цена познания — страшная цена. Поэзия искренне ищет ответов, но дьявол только посмеивается над ней. Мир поражен слепотой. Зло и добро неотличимы одно от другого. "Зло во всем: в привычном, неизвестном, зло — в самой основе бытия". Власть лукава, народ доверчив: чернь поет и пляшет, готовая растерзать любого, на кого укажет Инквизитор (чувствуется, что Достоевский помогает держаться). Но поскольку "ложь и истина — всё игра", — держаться можно только правил игры. А они безжалостны. "Наступает бесноватый век, наступает царство одержимых". Вперед лучше не смотреть — на месте грядущего оказывается прошедшее, но и его лучше стереть из памяти.
Я хотела бы самого, самого страшного,
Превращения крови, воды и огня,
Чтобы никто не помнил вчерашнего
И никто не ждал бы завтрашнего дня.
Чтобы люди, убеленные почтенными сединами,
Убивали и насиловали у каждых ворот,
Чтобы мерзавцы свою гнусность
поднимали, как знамя,
И с насмешливой улыбкой шли на эшафот.
Что поразительно: ни звука — про нынешнее или "вчерашнее". Из памяти всплывает древнее. Тамерлан. Тиберий. Нерон. Цезарь. Савонарола. Торквемада. Не ближе Робеспьера. А в глубь веков — сколько угодно, аж до Авраама, до "разгневанных фурий", до Страшного Суда.
Элементарное объяснение: осмыслить современность, то есть свести счеты с теми мерзавцами, которые упекли Баркову в лагерь,— за такую попытку можно и новый срок схлопотать. Даже если что и складывается,— ни записать, ни прочесть никому нельзя. Но эта, внешняя причина, думается, не единственная, а есть и внутренняя: невозможно понять смысл этой реальности. Кроме одного: что между лагерем и "волей" нет большой разницы.
Это страшное открытие подтверждается в 1940 году, когда, отмотав срок по полной, вчерашняя арестантка выходит на свободу и начинает мотаться за чертой "сто первого километра", пытаясь найти жилье и работу. Война застигает ее в Калуге, там же мыкается она и при оккупантах. Освобождение предстает в облике армейских особистов, проверяющих, не сотрудничала ли с немцами. Л.Таганов объясняет: "вероятно, сам ее вид противоречил представлениям о "предательстве", и ее "скоро отпустили".
Отпущенная голодает, мыкается по углам, ходит в обносках, стоит ночами в очередях за хлебом. Два стихотворения, написанные в тот "вольный" период рисуют грязь, отчаяние, кровь, навоз и "взрывы бомб", отчетливо переводящие стрелку беды с лагеря на оккупацию, а больше — на послевоенную бытовую жуть. Пушкин и Шекспир посрамлены в своей гармонии. Тьма низких истин перечеркивает всякую попытку что-то лепетать про возвышающий обман. Муза немеет.