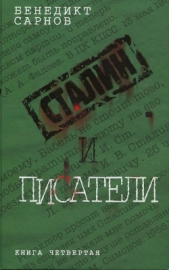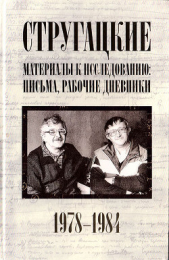Сталин и писатели Книга третья

Сталин и писатели Книга третья читать книгу онлайн
Третий том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» — как и второй том той же книги — состоит из четырех глав: «Сталин и Шолохов», «Сталин и Пильняк», «Сталин и Замятин», «Сталин и Платонов».
Эти четыре сюжета не менее — а в иных случаях и более — драматичны, чем те, с которыми читатель столкнулся в первых двух книгах трехтомника.
В главе «Сталин и Шолохов» Б. Сарнов включается в давние, а в последние годы с новой силой вспыхнувшие споры о том, кто был автором «Тихого Дона». Но его тут интересует не столько сама эта проблема, сколько отношение к ней Сталина: ведь именно Сталин пресек все «сплетни» о плагиате и «назначил» автором этой великой книги молодого Шолохова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шолохов в этом смысле являл собой полную противоположность Бабелю. Он был сделан совсем из другого теста, и в этом своем качестве был так же уникален, как Бабель в своем.
В своих взаимоотношениях с цензорами и редакторами он проявлял такую лакейскую готовность к компромиссу, что тут впору говорить уже не о компромиссе, а о полной и безоговорочной капитуляции.
Американский шолоховед Герман Ермолаев, сравнивая издание «Тихого Дона» 1953 года с ранними изданиями романа, обнаружил «около 400 политических изъятий, три четверти которых пришлось на 2-ю книгу». И там же он выявил множество чужеродных вписок, которые «подчеркивали свершения Ленина и Сталина и осуждали Белое движение». Помимо этих политических поправок Ермолаев отметил около 300 пуританских исправлений. Целомудренные редакторы-пуристы убирали даже «упоминания волос на руках, ногах и груди мужчин». (Г. Ермолаев. «Шолохов: жизнь и творчество»).
Эту податливость Шолохова, всегдашнюю его готовность смириться с любыми вторжениями цензора или редактора в художественную ткань «Тихого Дона» не может скрыть и отечественный биограф писателя, хоть это и находится в некотором противоречии с восторженным, апологетическим тоном его книги:
► Издание «Тихого Дона» 1953 года — вопиющий образец издевательств над Шолоховым. Редактор вытравливал правду драматизма в описании революции. «Поправил», к примеру, сцену, когда Подтелков убил полковника-белогвардейца... В своем послесловии пустился в путаные психологические сентенции, чтобы оправдать и большевика Подтелкова, и себя, редактора, изуродовавшего сцену: «Он зарубил его — это правда. Но это был акт самозащиты: Чернецов выхватил из куртки пистолет и хотел убить Подтелкова, произошла осечка. Что оставалось делать Подтелкову? Ждать второго выстрела? Подставить свою грудь под револьвер злобного карателя?..»
Он взялся «исправлять» «натурализм» сцен родов Аксиньи, изнасилования Фрони, «обгуливания» Коршуновым купеческой дочери, проборонил языковые особенности говора Дарьи...
Разоблачительный пафос этой саркастической инвективы, разумеется, направлен не на «автора» романа, а на его редактора (цензора). Но вопрос: а где же был при этом «автор» и как стерпел он все эти измывательства над любимым своим детищем, — не может тут не возникнуть. «Автор» этот ведь был не так беззащитен, как другие советские писатели: мог бы и побороться.
Положим, иным из этих цензорских изъятий он воспротивиться не мог. Тем, например, которые касались слишком уж благодушного, чуть ли далее не апологетического изображения генерала Корнилова. На эту тему, как мы знаем, однажды (во время первой своей встречи с Шолоховым) со всей определенностью высказался сам Сталин.
Личное вмешательство Сталина определило и некоторые другие — уже не политические, а чисто эстетические, вкусовые посягательства редактора (цензора) на языковое своеобразие «шолоховского» текста:
► Сталин находился в другом конце столовой в окружении группы писателей. Продолжался разговор о литературе. Генсек сравнивал «Бруски» Панферова и «Тихий Дон» Шолохова. Он считал, что Панферов глубже и вернее казачьего писателя отображает остроту классовых противоречий в деревне.
К тому же, по мнению Сталина, казачий писатель злоупотребляет областным говором:
— «Сбочь дороги», «сбочь дороги», — несколько раз повторил он. — Что такое «сбочь дороги»?
О том, как раздражило Сталина это «областное» словечко, потом вспоминал и сам Шолохов:
► В беседе со мной обронил внимание на необходимость очищения языка моих произведений от неполноценных, сорных слов. Например, обратил внимание на начало 34-й главы «Поднятой целины». «Сбочь дороги — могильный курган...» Что за слово «сбочь»? — говорил товарищ Сталин. — Нет его у нас в русском языке. Есть слово «сбоку», есть «обочина».
Шолохов мог бы возразить на это, что в русском языке, помимо литературного, книжного «сбоку», есть еще слово «обочь» (отмечено у Даля), а значит, вполне допустимо (в художественном тексте) и это не понравившееся ему «сбочь». Но вступать в полемику с «корифеем всех наук» он, разумеется, не мог. («С ним трудно полемизировать, — сострил однажды Радек. — Ты ему цитату, а он тебе — ссылку».)
Герман Ермолаев установил, что послушные воле вождя редакторы полностью исключили это слово из текста «Поднятой целины». А в «Тихом Доне» истребили его в 30 случаях.
Он, правда, отметил, что в собрании сочинений Шолохова 1956—1960 годов некоторые из тех изъятий, которым подверглось издание 1953 года, были восстановлены. Но — не все. Он подсчитал, что из 400 поправок, внесенных цензорами и политредакторами в издание 1953 года, число так и не восстановленных превысило 250.
После смерти Сталина Шолохов, казалось, уж мог бы постараться убрать все увечья, нанесенные редакторами и цензорами его роману. Возможностей для такой борьбы у него было побольше, чем у любого из его собратьев по перу. Что говорить! Конечно, мог бы! Но — не стал. Махнул рукой. «Сойдет-де и так!»
Эта реплика, всплывшая вдруг в моей памяти, — из стихотворения Н.А. Некрасова «О погоде». Произносит ее там — посыльный (по-нашему, по-сегодняшнему сказать — курьер) Минай, всю жизнь носивший писателям корректуры:
Припомнившуюся мне реплику этот старик Минай кинул однажды как раз Александру Сергеичу:
Посыльного, который, «глядя, как человек убивается», кинул Александру Сергеевичу эту утешающую реплику, понять, конечно, можно. Но у писателя, которому принесли корректуру, испещренную красными редакторскими или цензорскими вычерками, это добродушное «сойдет-де и так!» может вызвать только ярость, боль и отчаяние.
Советская цензура (а редактура тем более) была не в пример круче той, с какой приходилось иметь дело Александру Сергеичу. И писателю — куда денешься! — приходилось уступать этому давлению тяжелого государственного пресса. Но та легкость, с какой уступал этому давлению Шолохов, невольно вводит в соблазн объяснить это тем, что текст, который он так равнодушно позволял уродовать и калечить, был не родным, не кровным его детищем, а — чужим, «усыновленным». Как у той ненастоящей, мнимой матери, которая согласилась с решением царя Соломона разрубить ребенка, из-за которого у нее шел спор с другой женщиной, на две половины.
Есть тут, правда, одно обстоятельство, которое как будто не согласуется с этим объяснением и даже решительно ему противоречит.
В январе 1958 года по какой-то «горящей» путевке я оказался в Доме творчества писателей в Ялте. Зимняя Ялта тогда мало кого привлекала, и Дом пустовал. Так называемых писателей в нем отдыхало (считалось, что они приехали сюда не отдыхать , а творить) было человек шесть. А не «так называемый», настоящий писатель из этих шести был только один — Константин Георгиевич Паустовский. У него была тяжелая астма, и зимняя Ялта ему была предписана врачами.