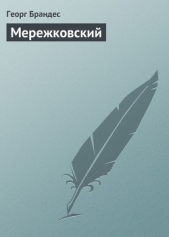Россия и большевизм

Россия и большевизм читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ЗАГОН, ЧТО НАЗЫВАЛИ РОССИЕЙ, И ЗАГОН, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ «ЭМИГРАЦИЕЙ» [34]
Россия в изгнании, называющая себя неверным и недостаточным словом «эмиграция», похожа на Израиля в «эллинском рассеянии» или в «вавилонском пленении» (кажется, последнее вернее). Душу Израиля спасло Священное Писание, «Закон и Пророки»; душу России в изгнании могла бы спасти великая русская литература — эмигрантский «Закон и Пророки».
Но для этого нужно бы увидеть их новыми или, как нынче говорится, «пореволюционными» глазами, новою мыслью передумать, новым сердцем пережить. А этого сделать нельзя без новой, «пореволюционной» тоже, критики. Но ее-то и нет. Сколько в «эмиграции» (будем употреблять иногда это недостаточное, но всем понятное слово), сколько в «эмиграции» старых и новых писателей и ни одного равного им критика. Эмиграция себя не судит («критика» значит «суд») под тем предлогом, что нельзя друг друга судить в виду врагов; бороться друг с другом нельзя, в тесноте, на плавучей льдине изгнания; говорят о себе, как о мертвых, «или хорошо, или ничего». Aut bene, aut nihil. Критиков же, судей, убивают или делают все, чтобы их убить, потому что внутренней критики — совести — нельзя убить совсем: слишком живуча эта змея.
Кажется, главная причина медленного, но страшно неуклонного умственного и нравственного падения «эмиграции» — это убийство Критики. То же, что сознание в личности, — критика в обществе: ее конец — конец сознания. Пала эмиграция и лежит без сознания. «Душа унижена до праха» и каждый проходящий может ее топтать, как прах.
Русский «Закон и Пророки» — наша великая литература. Что нам делать, говорит «Закон»; что с нами будет, говорят «Пророки». Если над нами исполнилась с такой ужасающей точностью первая половина пророчества, то, вероятно, и вторая половина исполнится.
«В России живет народ, который дик и зол… Я сторонний человек и могу судить свободно: русский народ зол; но и это еще ничего, а хуже всего то, что ему говорят ложь и внушают, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать». Это в рассказе Лескова «Загон» говорит русскому юноше обрусевший англичанин в самом конце крепостного права, в начале 60-х годов.
Страшным словом «Загон» определяет он исторические, политические, социальные и религиозные судьбы России: тыном огороженное место, куда загоняют ожидающий бойни скот, — вот что такое «загон». Крайнему северо-востоку Европы — географической глуши, захолустью, «Евразии» — месту России в мире вещественном, соответствует также место в мире духовном. Был один «загон» внутренний, тот, что называли когда-то «Россией», а теперь их два: внутренний и внешний, тот, что называется сейчас «эмиграцией»; но в обоих одинаково считают русских за овец, обреченных на заклание.
«Русский народ дик и зол». Значит ли это: «зол», потому что «дик»? Между «злом» и «дикостью», с одной стороны, «добром» и «цивилизацией», с другой, — существует ли в народах-обществах такая же необходимая, внутренняя связь, как в отдельных личностях?
Был ли французский народ, один из «просвещеннейших», менее «зол» в терроре 93-го года, чем русский, «дикий» народ в своем терроре? Не был ли «злее» всех народов, бывших и будущих, тот, что кричал Пилату: «Распни!» — народ Божий, просвещенный светом божественным? Можно ли о каком бы то ни было народе сказать: весь добр или весь зол?
«Что ты Меня называешь добрым — благим? Никто не благ, как только один Бог» (Марк. 10, 18).
Если это говорит о Себе Сын человеческий, то тем более можно было бы это сказать обо всем роде человеческом.
Кажется, корень зла в русском народе видит Лесков не столько в самом зле, сколько в смешении зла с добром: «Хуже всего то, что народу говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно… За это придет наказание». — «Нелегко разобрать, куда мы подвигаемся, идучи так, на ножах, которыми хочется кому-то все путное на клочья порезать, но одно только покуда во всем этом ясно: все это — пролог чего-то большого, что неотразимо должно наступить» («На ножах», Лесков).
Самое страшное в этих пророческих словах, может быть, то, что они так спокойно и просто, как будто мимоходом, сказаны. То же, что в «Бесах» Достоевского, в целой книге, сказано, здесь — в одной строке. Но каждое слово в ней огнем и кровью наливается — огнем, в котором сгорела, и кровью, в которой потонула Россия. Только теперь загнанные в оба скотских «загона» — в бывшую Россию и в эмиграцию, только новыми, «пореволюционными» глазами перечитывают или могли бы перечесть эти слова как следует; только теперь видят или могли бы увидеть в них свой приговор.
«Многое впереди загадка, и до того, что даже страшно и ждать… Наших детей и нас, может быть, ожидает что-то ужасное», — так же спокойно и просто, как будто мимоходом, нечаянно, повторяет Лескова Достоевский («Дневник писателя». 1876. Февраль. I). Оба приходят к одному и тому же выводу из двух как будто противоположнейших посылок. «Русский народ дик и зол», — утверждает Лесков; «Народ наш разумен и тих», — утверждает Достоевский. — «Пусть он груб, и безобразен, и грешен, но приди только срок его, начнись дело всеобщей, всенародной правды, и вас изумит та степень свободы, которую проявит он, под гнетом материализма, страстей, денежной и имущественной похоти, и даже перед страхом жесточайшей, мученической смерти» («Дневник писателя». 1877. Январь. I). — «Что лучше — мы или народ?.. Отвечу искренне: мы должны преклоняться перед народом и ждать от него всего… как блудные дети, двести лет не бывшие дома, но возвратившиеся все-таки русскими» (1876. Февраль. I). — «Суть христианства… дух и правда его сохранились и укрепились в нашем народе… так, как, может быть, ни в одном из народов мира сего» (1877. Март. I). — «Правда Христова… хоть где-нибудь, да должна же сохраниться; хоть какая-нибудь из наций должна же светить… Солнце показалось на Востоке (в России), начинается новый день… К тому идет» (1877. Февраль. I).
Все это значит: «Русский народ — Богоносец»; место его в мире — не скотский «загон», а высота, где воздвигнется Град Божий, Новый Сион. Это для Достоевского вывод не из отвлеченного мышления, а из религиозного опыта, в котором соединяется для него бывшее с будущим, начало жизни — с ее концом, первое воспоминание — с последним пророчеством…
«Вспомнилось мне одно мгновение из моего первого детства, когда мне было лет девять… Август месяц в нашей деревне; день сухой и ясный… Я прошел за гумна… забился в кусты, и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик… Вдруг среди глубокой тишины я услышал крик: „Волк бежит“. Вне себя от испуга, крича в голос, я выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика… Это был наш мужик Марей… Он остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другой — за его рукав, то он разглядел мой испуг.
— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.
Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на одно мгновение почти мне поверив.
— Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь? Какому волку тут быть! — бормотал он, ободряя меня.
Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун. Углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый палец, с черным ногтем, запачканный в земле, и тихонько дотронулся до моих губ.
— Ишь ведь, ай, — улыбнулся он мне какою-то материнской улыбкой.
Я понял, наконец, что волка нет и что крик: „Волк бежит!“ — мне померещился.
— Ну, ступай, а я те вслед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь. — Ну, Христос с тобой!