Песочные часы
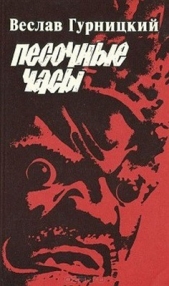
Песочные часы читать книгу онлайн
Веслав Гурницкий. Песочные часы (перевод с польского). Предисловие Е. Василькова.
Эта книга — записки очевидца, посетившего Кампучию спустя три недели после того, как под ударами патриотов рухнул режим Пол Пота. Книга В. Гурницкого — страстное обвинение тем, кто, руководствуясь, эгоистическими целями, гегемонистскими расчетами, стремился превратить страну в пустыню, а целый народ — в рабов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
LXXV. Обувь. Правильно, это зрелище сильнее всего врезается в память и производит потрясающее впечатление. Но ведь в данной климатической зоне обувь — выдумка капиталистического дьявола, который нашептывает людям, что они могут жить удобнее, лучше, безопаснее. Сто поколений азиатских крестьян не дошли до мысли о том, что надо носить обувь, и даже не знали о подобном изобретении. Своими босыми ороговевшими ступнями они тысячелетиями измеряли бескрайний континент. Лишь эпоха колониального рабства довела до сознания бедных жителей Азии (богатые раньше узнали эту тайну), что человеческие ступни можно облекать в кожу животных. Поэтому обувь, как социально-экономический факт, следовало одним махом упразднить, по крайней мере среди гражданского населения, потому что армия должна все-таки ходить в обуви. Именно поэтому выселяемым гражданам приказывали снять обувь, прежде чем они покинут город. Надо было, чтобы их изнеженные ступни познали тяготы крестьянской ходьбы, вступили в соприкосновение с матерью-землей, получили «революционную» закалку. Почти у всех начинали кровоточить израненные ступни или наблюдалось опасное заражение, потому что пыль на дорогах Кампучии перемешана с бактерийной флорой в пропорции один к одному. Эти люди впервые в жизни шли по сто или двести километров. Многие из них не выдержали марша. Ну и хорошо. Природа сама лучше знает, как производить естественный отбор, по Дарвину.
Это звучит цинично и жестоко, но ведь не мы, люди средиземноморской цивилизации, отдавали приказы о марше. Скорее система, породившая полпотовцев, была циничной и жестокой. Вот уже тысячу лет никто не жалел крестьянских ног, которые тоже, в конце концов, покрыты эпителиальной тканью, а теперь все в ужасе заламывают руки, скорбя о судьбе барышень из хороших домов, которым пришлось столько километров пройти босиком. Означает ли это, что одна пара человеческих ступней ценнее другой? Как раз в данном случае европейские представления о революции гроша ломаного не стоят. Мы успели позабыть, как реально выглядит стихийная народная революция в тех условиях, когда нет иного выхода. Надо иметь за плечами биографию кхмерского крестьянина, чтобы понять те психологические мотивы, которыми руководствовались командиры и конвоиры, приказавшие разуться выселяемым жителям Пномпеня.
LXXVI. Азиатский город — это значит: сидеть на корточках, болтать с земляками, курить окурки, принести-подать, поклянчить, подивиться, спрятать в рукав. Чем крупнее город, тем больше этого ничегонеделания, тем легче нырнуть в темень узких улочек, в сладостный запах растительного масла, сточных канав, кухонных дворов.
Азиатский город — это господа чиновники в белых рубашках, ужасно важные полицейские, недосягаемые сагибы, вещи страшные и далекие, как луна. Но это и беспрерывное движение, шум, тысяча чудес для обозрения, миллион обещаний на каждом углу, вечная надежда, что что-то случится, что-то изменится. Хорошо. Можно жить, пока злые ветры не изогнут дугою спину, можно молодые свои годы проболтать, просидеть на корточках, пробродяжничать.
А деревня в Азии — это «золотой кулак солнца», пыль и грязь. Это — вставать на рассвете или до рассвета, вечный зной, боль в мышцах, забота о горстке риса, абсолютная призрачность человеческой жизни, все один и тот же запах буйволиного помета, размякшей земли на рисовом поле и сухой соломы.
Город в Азии — это родина местных джиннов и заморского дьявола. Из милых девушек с соседней улицы он делает холодных, расчетливых уличных девок, которые с дураков иностранцев берут во сто раз больше, чем сами стоят. Он порождает коррупцию, дошедшую до стадии клинического заболевания. Он — питомник продажных чиновников, тайных агентов, торговцев опиумом, мошенников и попрошаек, отцов, которые продают собственных дочерей. Он кого угодно засосет, кого угодно развратит. Он растет, как дракон в легендах, пьет кровь, как вампир.
Деревня здесь жестока, но она чиста. Ее жестокость — не врожденная. Она порождена нищетой и неравенством. Это единственная среда обитания, которую еще можно сберечь ради человечества.
Города спасти невозможно.
Азия никогда не знала столь огромных, многомиллионных городов, пока не вторглись сюда белые колонизаторы, которым понадобились проститутки, комиссионеры, посредники, толмачи, шпионы и лакеи. В течение тысячелетий азиатам было в принципе достаточно княжеских столиц и небольших городов, местных центров простого товарообмена и самого необходимого ремесла. Только эпоха колониализма сотворила города-тюрьмы, дерзкие и порочные города-паразиты по самой своей сущности.
Надо уничтожить эти сайгоны Азии. Надо вернуться к исходному пункту.
Примерно так могло рассуждать руководство «Ангки», когда начиналось выселение двух миллионов жителей из Пномпеня.
LXXVII. Почему неприязненно и враждебно мы воспринимаем такого рода аргументы, расценивая их как демагогические? Это понятно. Для нас очевидно, что мы должны лучше зарабатывать, обильнее питаться, удобнее жить. Нам должны быть доступнее стиральные машины и автомобили. Нам надо больше путешествовать, обставлять квартиры большим количеством мебели и украшений. Неизлечимо зараженные определенными навыками видения и понимания действительности, мы беспрерывно и безуспешно пытаемся их перенести в тот страшный и жестокий мир, где идеи выступают в упрощенном виде и где прогресс в нашем понимании — вещь далеко не общепризнанная.
«Каждая мысль, — говорит Эрих Фромм в «Бегстве от свободы», — истинная или ложная, мотивирована субъективными нуждами и интересами личности. Некоторые интересы способствуют отысканию истины, а другие — ее уничтожению. В обоих случаях психологические мотивировки являются весьма важным стимулом для получения определенных выводов. Можно даже пойти далее и сказать себе, что идеи, которые не укоренились в глубоких потребностях личности, будут оказывать лишь незначительное влияние на деятельность человека и вообще на всю его жизнь».
На нас, конечно, не будут иметь влияния. Ни на меня, ни на тех, кто это в данный момент читает.
Тут все в порядке. Нет проблемы. Такова естественная последовательность вещей. Только есть предложение: принять к сведению, что существует еще другой мир, наряду с нашим. Мир других критериев зла и добра, охватывающий четыре пятых рода человеческого, мир, где единичное, непродолжительное страдание личности — это, в сущности, ничто по сравнению с безмерным страданием миллионов.
LXXVIII. Неправда, что по мере развития средств информации и телевидения мир становится «глобальной деревней», как утверждает канадец Мак-Люэн [35]. Напротив, он становится все более захолустным и провинциальным, если говорить о его восприятии обывателем, сформированным «массовой культурой». Утомление от слишком большого количества стран, проблем, лозунгов и конфликтов приводит к тому, что стимулы взаимоуничтожаются, реакция притупляется, во всяком случае по сравнению с ситуацией пятнадцатилетней давности. Провинциализму сопутствует его родной брат — эгоизм. Затем появляется неумение мыслить в крупном временном и пространственном масштабе. Исчезает способность связывать далекие от нас факты с окружающей повседневностью. Это было подмечено уже сотни раз, но ничего не изменилось. Неужели так история мстит нашему миру за его чудесное разнообразие?
LXXIX. Жестокость азиатских революций? А как им не быть жестокими? Где еще в мире, исключая, быть может, ранний период конкисты и порабощения Африки, была в новое время создана система, которая стала бы столь ярким воплощением неумолимого насилия, бедствий, унижений и жестокости? Почему всякая азиатская контрреволюция, местная или импортированная, так быстро получает отпущение грехов и уходит в забвение, а о жестокостях народных движений годами говорят с возмущением и ужасом? Испытал ли Запад моральное потрясение по поводу четырехсот тысяч индонезийцев, которых в 1965 году насмерть забивали палками, вешали за руки на деревьях, топили, обезглавливали, четвертовали? Что поделывают палачи низама Хайдабарада, которые в 1947 году разжигали костры на животах бунтовавших крестьянок в Тиленгане, и элегантные британские офицеры, которые в 1952 году фотографировались с отсеченными головами малайзийских партизан? Кто лицемерно заламывает руки, сокрушаясь о судьбе изгнанных из Сайгона сутенеров, воров и бандитов, которым, видите ли, в Парагвае приходится основывать «El Nuevo Saigon» [36], и ничего не имеет сказать насчет «тигриных клеток»? Эти клетки, если требуется пояснение, изготавливались из толстых стальных прутьев с пятисантиметровым расстоянием между ними. За десять дней пребывания в клетке тело узника превращалось в один вонючий и гноящийся ожог. Все это происходило не несколько веков назад: через застенки сайгонско-американской полиции прошло более сорока тысяч человек. Последних узников полуживыми извлекли из «тигриных клеток» весной 1975 года.

























