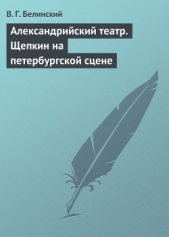Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе и речи о литературе, искусстве, театре, моде и о себе
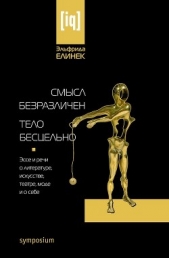
Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе и речи о литературе, искусстве, театре, моде и о себе читать книгу онлайн
Эссеистика Эльфриды Елинек, лауреата Нобелевской премии по литературе за 2004 г., охватывает разнообразные сферы культуры: литературу (Кафка, Лессинг, Брох, Йонке), театр (Брехт, Беккет, Ионеско, актерское искусство), музыку (Шуберт, Иоганн Штраус), кино, моду, громкие события светской жизни (принцесса Диана), автобиографические темы. Эта книга никогда не выходила на немецком или на других языках и, с разрешения автора, впервые публикуется по русски.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слушатель словно бы поглощен шубертовским вакуумом, который затем — будучи музыкой, сомневающейся, как никакая другая известная мне, в достоверности всего на свете, — всякий раз возвращает его самому себе (что ж, он прилежно прослушал все до конца, сохранив при этом свое «я»; он крепко держался, чтобы его не унесло, и, может быть, даже не забыл пристегнуться!) — но на какие-то доли секунды, пока время текло вспять, вслепую, эта музыка рассекла его бичом времени, сотканным из звуков, и навеки отлучила от самого себя, да так, что он этого даже не заметил.
И это унижение, состоящее в вынужденном поиске чего-то такого, что для других просто существует как факт очевидный и бесспорный, не имеет конца, поскольку сами вещи представляются Шуберту в конечном счете вовсе не как сумма своих реальных измерений, что позволяло бы ему просто переносить их на бумагу. И оно продолжается по сей день, покуда Шуберту и, как мне думается, Малеру приписывают нечто, в обладании чем они сами никогда не могли быть твердо уверены. Сегодня мы пытаемся заставить Шуберта быть чем-то, чем он на деле не является, ибо мы не в состоянии представить себе, как можно стремиться кем-то быть и что-то создать, имея при этом в виду вовсе не себя самого (о «самореализации» в искусстве лучше вообще умолчим!), а может, и не имея ни малейшего представления, кто или что вообще имеется в виду. Подобно тому как, пережив только что большую радость или удачу, можно вслед за тем немедленно впасть в разочарование либо в чью-то немилость, так и Шуберт не мог не чувствовать, что в немилости-то он оказался с самого начала и, что бы о нем ни думали тогда, что бы ни думали сегодня, — а уж сегодня мы его, разумеется, просим в дом и обхаживаем как дорогого гостя, хотя угодить-то всегда пытаемся только себе самим, — суть совершенно в другом. Нечто заключено в границы, которых оно не желает знать, потому что все равно никогда не признало бы их без того, чтобы не объявить тем самым о своей добровольной капитуляции, — а ведь оно не капитулирует никогда и ни перед кем. Набор инструментов, которым мы пользуемся, неизменно представляет собой коллекцию оружия, но проку от нее никакого. При этом мне вспоминается Шуман в свои последние годы, в лечебнице для душевнобольных: угасание рассудка, не замечающего самого себя.
Так Шуберт, причем в моменты своего наивысшего взлета, не находит выхода из себя самого и из того, что он пишет. Именно потому, что он не ведает, что творит, хотя ему это известно лучше, чем любому другому. С наибольшей силой это выражено, пожалуй, в первой части последней сонаты (ля мажор, D 960) и во второй части предпоследней (си мажор, D 959). Тема блуждает и не может обрести себя. Снова и снова она обращается к своему истоку, встречает на пути, как бы случайно, еще и побочную тему, которая ненадолго выглядывает в окошко — нет ли там еще чего — нибудь? — но тут же опять возвращается к своим блужданиям в заколдованном кругу. Словно из-за двери мы слышим «можно войти?» или раздается робкий стук. Между тем ясно одно: это не ляпсус контрапункта при обработке темы. Вопрошая, музыка бросается из стороны в сторону, и Шуберт, даже удаляясь от своей темы, все-таки неизменно пребывает в исходной точке, при этом, как ни странно, не приближаясь к ней ни на шаг. Хотя вообще-то он давно уже находится там, где нужно, ведь тема беспрерывно дает о себе знать. Почему он не стремится достигнуть цели? Потому что просто не отваживается на это? Потому что он, собственно, метит вовсе не туда? Потому что не хочет признаваться, какую цель он себе наметил (цензура!)? В большой сонате ля мажор (вторая часть) то, что там неожиданно возвышает свой голос, порой не способно даже вернуться в основную тональность; вот оно ее почти достигает, но нет! — вот оно уже у цели, ведь цель известна! — но тут в басах пробивается нечто, вылезает некий шип, который и приводит в негодность все сиденье; или, скажем, там остается какая-то зацепка, что-то хватает в последний момент за полу, вновь и вновь нерешительно спрашивает адрес, хотя уже стольким прохожим мы задали этот вопрос и столько раз услыхали в ответ: да вот же, прямо перед вами, сюда-то вам и надо! Следовательно, чем настойчивее обращение к теме, чем чаще она возникает, тем сильнее она отдаляется от себя самой и даже от своего создателя. И это уводит нас к началу всех вещей и к тому, какими они предстают нашему взору. Сперва что-то являет себя нам, потом оно встречает нас лицом к лицу, чтобы утвердить нас в качестве субъектов внутри виденного нами, причем до тех пор мы и не подозревали, кто или что мы есть на самом деле. А так как мы не знаем, кто мы, то и явленное нам, естественно, не способно на познание. Но мы и сами этого не знаем. Так музыка, именно эта, и никакая другая, музыка, уводит нас, минуя предметы, в свою собственную сферу, а сфера музыки — это время, лишившееся, в случае Шуберта, своего пространства, даже если сегодня это пространство вновь представляет собой торжественный концертный зал. Если время-пространство допускает соприкосновения и пересечения, то это время, лишенное пространства, таких пересечений как раз и не дозволяет, ибо у Шуберта, покуда он задерживал ход времени, чтобы и самому ненадолго задержаться на месте, утекло между пальцев пространство, то есть та штука, которая рассеяна вокруг вещей, примеров чему в истории музыки найдется не много. Волей-неволей приходится, чтобы добиться какой-то определенности, делать ссылку на пространство и время: эпоху бидермайера, меттерниховскую цензуру, эзопов язык, завуалирование действительности, манеру думать то, чего не говоришь вслух, и говорить то, чего не думаешь, и еще: некая вещь с самого начала является чем — то, о чем не узнаешь ничего, поскольку она, хотя и будучи (вполне осознанно!) предметом желанным и делом чьих-то рук, — все — таки не дамское рукоделье, которое можно оставить у себя, поместить в коллекцию и разглядывать, когда душе угодно. То, чего здесь недостает, и есть главное, тут ничего не выпущено — напротив, именно его отсутствие и делает его тем, что оно есть!
Всякий путь притязает на то, чтобы быть пройденным, и художник вступает на него первым. Есть такие, что шагают по бездорожью. Не смущаясь этим, они идут вперед и гибнут за нас, и даже слава павших на поле брани не выпадает на их долю. Дверь заперта, перед нами план здания в разрезе, но и без всякого плана тут всегда есть и будет все тот же разрез.
ГОНИМАЯ НЕВИННОСТЬ. ОБ ОПЕРЕТТЕ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» [60]
© Перевод Г. Снежинской
«Ничего тут нет романтического», — говорит Розалинда в десятом явлении третьего акта. И это верно. В самой удивительной (и лучшей) из всех оперетт нет ничего романтического, однако и не всеобщая жизнерадостность и разгульное веселье с шампанским раскручивают действие «Летучей мыши». Конечно, шампанское в ней льется рекой, его стоило бы вынести в подзаголовок или считать чем-то вроде штрих-кода, в котором зашифрована цена товара. А товар, между прочим, скоропортящийся, вернее, мгновенно портящийся, — это само время. И все же, сколько ни превозноси шампанское как «виновника» запутанности сюжета, связно пересказать который попросту невозможно, не оно дарит зрителю возможность отрешиться от времени и побыть самим собой. А именно: ты — и друг-свинья, и неверный муж, и настоящий князь, и знаменитая актриса, она же горничная. Благодаря музыке время для всех этих людей бежит быстро, вот только страшновато им, что со временем и они сгинут, исчезнут, поэтому они упираются, не желая подчиняться его ходу. Музыка позволяет нам слышать уходящее время. Однако время, как и музыка, не только средство. Время не довольствуется ролью прохожего, который уводит нас за собой. В данном случае оно играет еще и единственную главную роль.
Насколько мне известно, эта оперетта — единственное произведение мировой драматургии, в котором все важнейшие события произошли до начала действия. (Можно вспомнить разве что водевиль Э.-М. Лабиша «Убийство на улице Лурсин», [61] но в нем все события, предшествующие собственно действию, разыгрались лишь накануне ночью, а все коллизии происходят на следующий день, в умах и чувствах людей, которые втягивают в свои конфликты других персонажей, потому как сами они мелковаты — борьбе с самим собой в них развернуться негде.) В «Летучей мыши» события произошли тремя годами ранее, упоминают о них как бы невзначай, ненароком, однако «летучая мышь», в действии оперетты практические не участвующая, мстит за ту старую обиду. Дело в следующем. За три года до начала действия, на одном из карнавалов во время Масленицы доктор-юрист Фальке, нарядившийся в костюм «летучей мыши» и крепко выпивший, что, впрочем, можно сказать чуть ли не о каждом персонаже оперетты, а также о публике до и после спектакля, был уложен спать на газоне под деревцем, наутро же, проспавшись, поплелся домой в дурацком и ужасно неудобном костюме, — а что было делать? — через всю Вену, на потеху прохожим. Сыграл с ним эту шутку приятель, Айзенштайн. Ну, хорошо, все это было раньше. Начало и конец истории уже в прошлом. Тогдашнее испытание не было доведено до конца, и спустя три года оно повторяется, но проверке подвергают другого человека. Разумеется, только он, единственный из всех, ни о чем не подозревает, — все происходит в точности как с доктором Фальке тремя годами ранее: он тоже не помнил ни кто он такой, ни где находится, когда уснул на улице, — эдакая поистаскавшаяся Спящая красавица, — ну и проснулся не от поцелуя и уснул, конечно, не «мертвым сном», так что никому не пришлось брать на себя труд по его пробуждению.