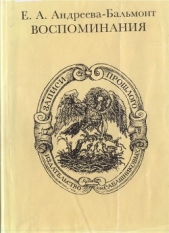К. Д. Бальмонт

К. Д. Бальмонт читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В отрывке из записной книжки 1890 г., приложенном как введение ко второму тому его «Полного собрания стихов», Бальмонт пишет: «В предшествующих своих книгах „Под северным небом“, „В безбрежности“ и „Тишине“ я показал, что может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку. В них есть ритмы и перезвоны благозвучий, найденные впервые». Да, обернувшись назад, можно найти тот путь, по которому пойдет Бальмонт в годы зрелости. С историко-литературной точки зрения путь этот намечает довольно полно и точно коротенькое стихотворение «Песня без слов» еще в самом первом сборнике. Стих уже не пушкинский ямб, оживленный пеонами, название близко Верлену, автору «Романсов без слов», синтаксис Фета, если взять для него типичным знаменитое «Шепот, робкое дыханье», и все это проникнуто принципом Эдгара По и Верлена: «музыка прежде всего».
Сплетение воедино всех этих особенностей — вот что характеризует своеобразную музу Бальмонта. Я говорю: своеобразную, потому что не в подражании дело. В приведенном стихотворении, прежде всего, столько звучных аллитераций. Это уже характерно бальмонтовское открытие. Он возлюбил аллитерации и вообще музыкальность самого словоупотребления: внутренние рифмы, звучные слова.
Настал праздник поэзии, и нарушена была святая схима. Первое главное, основное назначение, какое без всяких оговорок поставил себе в заслугу и в обязанность Бальмонт, это — радость искусства. Не только не хочет он оправдывать мастерство поэта какими-нибудь заслугами и задачами, в той или иной мере заходящими за пределы мастерства, но прямо и категорично заявляет, что замкнулся в поэзии:
Тут не только брошен жребий, но принят вызов. Не для жизни Поэт, и что ему жизнь? Между нею и поэтом цветные стекла его заколдованной башни, и он весь погружен в сны и мечтанья:
Все для него раскрашено красотой и условностью, вымыслом, ложью, всем, чем хотите, только не потребностями действительности и правды.
Легко было видеть в Бальмонте эстета и романтика, отвернувшегося от великой трагедии его родины. Но в том-то и дело, что это не так и за этим откровенным и прямым признанием самостоятельности и независимости искусства в душе Бальмонта росло и развивалось самосознание поэтического подвига «нужного и важного». И зрела эта уверенность, которую подтвердит очень скоро сама жизнь вполне объективно и наглядно, как тернист путь поэтического подвига, совершенно в той же мере, что и путь подвига общественного, когда велики предъявляемые к своему мастерству требования. Знал уже, что говорил, Бальмонт, когда в предисловии к «Горящим зданиям» написал свой девиз: «Нужно быть беспощадным к себе. Только тогда можно достичь что-нибудь».
Самосознание поэта — этот центральный мотив «Горящих зданий» — выражен в тесной связи с прославлением этой трудной и традиционной, вполне установленной поэтической формы: сонет, что влекла Бальмонта смолоду.
В форме сонета прощается навсегда поэт с представителями рассудочности, отвергшей все таинственное, что содержится в чарованье освобожденной от служебности и определенных принципов поэзии. Теперь он саркастически называет «проповедниками» эту честно думающую русскую интеллигенцию, ограничившую себя императивами общественности и простоты, превращенными незыблемой традицией в символ веры. Бальмонт говорит им:
Это заявление ведет нас непосредственно к новой поэтике Бальмонта:
Итак, Бальмонт ополчается против интеллигентов-проповедников, а сам-то? Разве не обещает он сказать «проповедь на благо света»? Не в отрицании проповеди, значит, было дело, а в проповеди «нового» и «по-новому».
Приведенный сонет, так характерно озаглавленный «Путь правды», целая энциклопедия «новой проповеди». Как только мы сделаем шаг в сторону понимания этой «новой проповеди», так сейчас обнаружится, что разнится она от прежней самой сущностью лежащего в ее основе миропонимания, а новизна формы, стремление к ней, «росписные стекла» мастерской художника — не что иное, как новое орудие, ставшее необходимым для проведения в жизнь этого нового миросозерцания. Оно ново самой своей гносеологией. Да, гносеологией; этот педантический термин, зазывающий в философские семинарии, где систематично и тяжеловесно проходятся основы философии, как науки о принципах, просто и точно определяет сущность загоревшегося пожарища в сердцах создателей новой поэзии и, в частности, в душе Бальмонта. О гносеологии в 90-х годах уже заспорили в кружках для самообразования. В редакциях журналов. Только что вышли тогда «Проблемы идеализма», и русская передовая молодежь, воспитанная на эпигонах «молодой Германии», на фейербаховском «отрицании философии», на «научном миросозерцании» естествоиспытателей, на эволюционизме Спенсера и материалистической системе Карла Маркса, — не говорю о «субъективном методе» Н. К. Михайловского, так как его влияние уже на ущербе к концу 90-х годов, — совершала свое паломничество «назад к Канту», и тут сильно запоздав, переступая из следа в след за немецкой семинарско-университетской мудростью. Авторы «Проблем идеализма» верили, что говорят новое слово, и уделили в своем сборнике местечко даже для Ницше. Стало вновь заползать в умы уже столько бед и тревог наделавшее на Руси полвека тому назад гегельянство. «Назад к Канту» и «назад к Гегелю» — лозунги, оказавшиеся для Бальмонта, однако, неприемлемыми. Они, пожалуй, расчистили путь «новой проповеди». Но гносеология самого Бальмонта — иная, и, если вдуматься, хотя на первых порах ее и воспринимали с грехом пополам совместно с идеализмом, она ему глубоко враждебна.