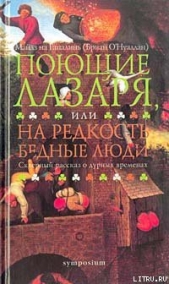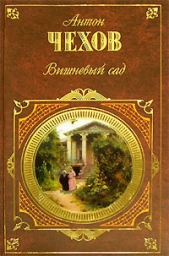Но еще ночь
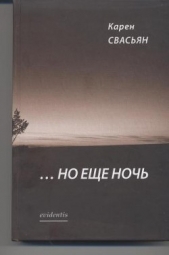
Но еще ночь читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Базель, 5 марта 2010
Андрей Белый и Осип Мандельштам
Тема отношений между Андреем Белым и Осипом Мандельштамом стоит под знаком распавшейся связи време . Как будто эти современники, даты рождения и смерти которых разделены какими-нибудь несколькими годами, жили в разное время, и мы едва ли преувеличим, сказав, что от Белого, автора «Симфоний» и гностических писем к Блоку, ближе дотянуться до провансальских жонглеров, чем до акмеистов или футуристов. Надо вспомнить страницы «Между двух революций» [83] и «Начала века» [84], на которых «символист Белый встречается (или, скорее, как раз не встречается) с Гумилевым и даже выдумывает ему в шутку его «акмеизм» , чтобы столкнуться с темой «конфликта поколений» в пределах одного и того же поколения; еще раз: для поэтов, начинавших уже после 1905 года, их современники, выступившие несколькими годами раньше, были ничуть не менее архаичными и смешными, чем для этих последних их позитивистические отцы. Наверное, это можно было бы объяснить спрессованностью сроков и ускорением темпов на последней, провальной, черте русской истории; сценарий замысла требовал и не таких противоречий, а времени совсем не оставалось, так что приходилось вшибать друг в друга крайности и спешно переключаться на режим симультанностей, вопреки нарастающим аварийным сигналам и коротким замыканиям. Пример отношений Белого и Мандельштама далеко не единственный и совсем не показательный в означенном «разрыве времен» ; показательность могла бы начаться, займи место Мандельштама, скажем, Маяковский или уже какой-нибудь Багрицкий; тогда речь шла бы просто о выпадении из тонального круга, и для фиксации случившегося понадобился бы минимум внимания и того менее слов; случай Белый-Мандельштам оттого и притягивает внимание, что фактор разности потенцирован здесь в элементе равенства , именно: энгармонического равенства, помеченного различными индексами и модулирующего в несходящиеся тональности. Можно, конечно, привязав себя к мачте «научности» и заткнув себе уши, миновать этот риф, но можно же и благополучно наскочить на него. Старый ницшевский вирус музыкальной ненадежности грозит всё еще обвалами филологических программ с их четкими «что можно» и «чего нельзя» ; можно искать иголку в стогу «текста» , нельзя «лезть в душу» ; филолог тем и отличается от экстрасенса, что угадывает он не чувства, а знаки, но было бы ошибкой застрять в этой альтернативе и не доиграться до её более выигрышного витка, где филолог отличается уже не от шаманов, а от себе подобных, и отличается тем, что не стерилизует инструменты, которыми нечего потом оперировать, а распознает в знаках чувства, и, найдя иголку в стогу текста, не забывает об игольном ушке, через которое только и можно пройти в душу.
Энгармонизм отношений дан в двойной оптике подхода: эпохально и персонально. В начале поэта и духовидца Белого лежит эпоха зорь и Соловьева, «первое свидание» , которое, прежде чем стать стихами, было бытом . Быт Мандельштама («Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, — и биография готова» [85]) — «ров, наполненный шумящим временем» , по сути, литературное переживание, датированное задним числом. Трудно представить себе, чтобы в строках вроде следующих: «И снова зов — знакомых слов: / — „Там — день свиданий, день восстаний“… / — „Ты кто?“ — „Владимир Соловьев: / Воспоминанием и светом / Работаю на месте этом“» , он увидел присутствие духа, а не прекрасные «остановленные мгновения» ; чем строки эти могли быть за рамками сиюминутного поэтического вдохновения, лежало уже в компетенции не поэтики, а духоведения. Если вспомнить, что акмеизм утверждался как раз в жестком противопоставлении себя символизму, и что программой его было иметь дело с самими вещами , а не с «лесом соответствий» , то очевидно, что жизненный мир «Первого свидания», как и соловьевских «Трех свиданий» и уже символизма вообще, подпадал здесь под разряд не «вещей» , а именно «соответствий» (сегодня сказали бы: «симулякров» ). «На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь» [86]. Всё так, только смысла в этом остроумии не больше, чем в его перевернутой версии: «На столе только и можно, что обедать, потому что это просто стол, а зажечь огонь без всякой символики можно, дав прикурить акмеисту». Очевидно, что и сам акмеизм есть всего лишь установка (сегодня сказали бы: «дискурс» ), и, стало быть, «вещи» его ничуть не менее мифологичны, чем кивки и намеки символизма. Решающим оказывалось при этом то, что от так понятых «вещей» не было и не могло быть уже никакого перехода к «соответствиям» ; поздняя истребительная рецензия на беловские «Записки чудака» [87]фундировалась именно неспособностью допущения монизма : когда живут , что́ пишут , и пишут , что́ живут .
«Основной грех писателей вроде Белого — неуважение к эллинистической природе слова, беспощадная эксплуатация его для своих интуитивных целей» [88]. Схвачено необыкновенно метко, хотя и без малейшего подозрения о том, что однажды это могло бы ведь быть оценено не в равнении на филологию, а в контексте достоинства и победы. Мир Белого антифилологичен, потому что слово здесь не воруется у воздуха (ср. «Четвертая проза», 5), чтобы остаться, как задержанное дыхание, в рукописи и быть позднее замурованным в «структуру» текста, а выдыхается обратно, именно: вдыхается как воздух, и выдыхается как дух, в ином раскладе: вдыхается как жизнь (в смерть), и выдыхается как смерть (в жизнь). Поэтому то, что в спешке литературного (о)суждения увиделось однажды кучей щебня — после мгновенного фейерверка [89], принимает в оптике смерти совсем другие черты («Толпы умов, влияний, впечатлений / Он перенес, как лишь могущий мог») . Эмерсон3цитирует слова Джорджа Фокса: «What I am in words, I am the same in life» — «Каков я в моих словах, таков я и в жизни». Если это не приложимо к Белому, то как раз с другого, чем обычно, конца: гениальность его слов меркнет перед гениальностью его личности. Момент, отмеченный многими современниками: он был значительнее всего им созданного . В том же точно смысле, в каком сам он писал о Соловьеве [90]: «Муза его стала нормой его теории, но и нормой его жизни». И дальше: «Помню большие коричневые свечи, которые привез он своему брату, М. С. Соловьеву, из Египта. Соловьев всюду как бы ходил с большой коричневой египетской свечой, невидимой для его маститых и уравновешенных друзей, но, быть может, видимой некоторым из его друзей, относительно которых ходили слухи, что друзья эти — „темные личности“. Вот эти-то темные личности впервые и возвестили о том, что Соловьев — вовсе не философ, а странник, ходящий перед Богом». В оптике мандельштамовской филологии [91]: «Ничего настоящего, подлинного. Страшный „контрданс“ соответствий, кивающих друг на друга. […] Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой». Эта филология покоится на petitio principii, или на произвольном допущении того, что роза и девушка суть уже что-то и без киваний друг на друга. А между тем: если философ Соловьев не хочет быть философом, а поэт Белый поэтом, то как раз оттого, что тот и другой хотят быть собой . Книги, не кивающие на личность , их написавшую, могут находиться в режиме наибольшего филологического благоприятствования; у личности , их написавшей, разговор с ними короткий, блоковский: «Молчите, проклятые книги! / Я вас не писал никогда!» «Для меня несомненно, что — Белый больше своих книг, что Белый-человек много, неизмеримо крупнее Белого-писателя» [92]. Услышать такое о Мандельштаме не только невозможно, но и как-то страшновато. Что это был бы за человек, будь он, как человек, больше, скажем, следующих строк: «А флейтист не узнает покоя, / Ему кажется, что он один, / Что когда-то он море родное / Из сиреневых вылепил глин» ! Но, ведь, очевидно, что он меньше их, как очевидно и то, что в этом нет ничего обидного и унизительного, если иметь в виду известную эстетическую традицию, от платоновского «Иона» («Поэт — это существо легкое, крылатое и священное, и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка») до пушкинского: «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон» . Быт Белого всё что угодно: безумие, гипербола, гротеск, стресс, срыв; чего здесь нет, так это ничтожества, всасываемого воронками отзвеневших аполлонических вдохновений; он не гас в повседневность после стихов, а отряхивал их с себя, как сгоревшие петарды; «доселе мне верили, как „ПИСАКЕ“; пожали б плечами, если б я их стал уверять, что могу НЕЧТО делать в связи с „КАК ДОСТИГНУТЬ“; доктор установил меж нами такую почву общения, где всё стало — наоборот: потенциально заданный „ЭСОТЕРИК“ вопреки всему стал проявлять следы жизни, а „ПИСАТЕЛЬ БЕЛЫЙ“… рос в землю» [93]. Что осталось бы от Мандельштама в подтверждение строк: «И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он» ? Наверное, куча скверных анекдотов и дружба с «Блюмкиным» ; в более злой, недружелюбной оптике: какой-то «Паниковский» sui generis, со слабостью уже не к гусям, а к книгам из чужих библиотек. То, что он мог быть (и был же) крайне неприятным в общении, засвидетельствовано множеством очевидцев, между прочим, и Белым во время их встречи летом 1933 года в Коктебеле: «И дернуло же так, что они оказались с нами за общим столиком (здесь столики на 4 персоны); приходится с ними завтракать, обедать, пить чай, ужинать. Между тем: они, единственно, из 20 с лишним отдыхающих нам неприятны и чужды» [94]. То же в письме к Ф. В. Гладкову: «С Мандельштамами — трудно. […] Они пускаются в очень „умные“, нудные, витиеватые разговоры с подмигами, с „что“, „вы понимаете“, „а“, „не правда ли“; а я — „ничего“, „не понимаю“; словом: М. мне почему-то исключительно неприятен; и мы стоим на противоположных полюсах (есть в нем, извините, что-то „жуликоватое“, отчего его ум, начитанность, „культурность“ выглядят особенно неприятно); приходится порою бороться за право молчать во время наших тягостных тэт-а-тэт’ов» [95]. Это более поздний резонанс блоковского: «мандельштамье» [96], только без блоковской злобы и брезгливости, но и без блоковского изумления при соприкосновении с ПОЭТОМ Мандельштамом [97]. Поэзия в Мандельштаме — волшебная лампа Аладина, скачок из ничто во всё, катапульта, спорадически выбрасывающая его в миры, в которых Белый жил . Спонтанность творчества обоих хорошо известна; оба творили на грани или уже за гранью одержимости, только Мандельштама продувало стихами, как сквозняком; строка «прежде губ уже родился шепот» точна физиологически; его бормотало , в том же смысле, в каком говорят: тошнило , или трясло . Его и в самом деле трясло стихами, так что временами он даже не знал вышептываемых им слов («Надежда Александровна, а что такое „аониды“?» [98]), и нам, потомкам, приходится осиливать странный факт, что в этом режиме обсцессивности выборматывалось-таки лучшее из всего, что когда-либо слышала русская поэзия! Нет сомнения, что «демоны» Белого были более высокого и могущественного ранга; читатель «Петербурга» мог бы догадаться о том, из какого безумия книга эта писалась, и что́ приходилось выдерживать её автору, чтобы не быть — погубленным без возврата . Невероятным во всех отношениях фактом оказывается, однако, то, что из тех же состояний им писались и другие книги: не стихи и романы , а исследования . Скажем, «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности», или «О смысле познания», или триптих «На перевале», или уже последнее: «Мастерство Гоголя». Как если бы некто «Джойс» не только протоколировал выбросы сознания своих героев, но и анализировал их, при том что и сам анализ демонстрировал бы головокружительную технику выброса. Есть Белый-поэт, автор «Котика Летаева» и «После разлуки», и есть Белый-теоретик стиха, автор «Ритма как диалектики»; и есть еще третий Белый, гётеанец и тайновед; если первый только и делает, что сходит с ума в ритмические подрагивания и тики «астрального тела» , то второй, вооруженный столбцами цифр, прослеживает кривую ритма в схождениях с ума первого, а третий заботится о том, чтобы не застрял в уме, никуда уже не сходя, и второй. Разумеется, ни о какой эллинистической природе слова тут не могло быть и речи; поздние упреки в адрес автора «Москвы» и «Масок», он-де разрушает художественность сознательной аналитикой приемов, не лишены оснований, хотя и бьют мимо цели, раз уж целью автора была не только названная художественность, при которой ему назначалась бы роль антенны, пеленгующей блаженные слова, вроде: «Ласточка, подружка, Антигона», или: «Россия, Лета, Лорелея» , но и уход за самой антенной… (Он с особенным удовольствием цитирует однажды ломоносовское: «Я и у самого Господа Бога дураком не желаю числиться» .)