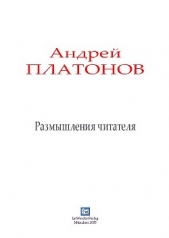В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки)

В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда я вижу в трамвае человека, похожего на меня, я выхожу вон.
Я не смотрюсь никогда в зеркало, и у меня нет фотографий.
Если я замечу, что человек говорит те же самые слова, что и я, или у него интонация в голосе похожа на мою, у меня начинается тошнота. (Платонов 1990).
Сопоставим это со следующим отрывком из "Чевенгура", где Софья Александровна показывает Симону Сербинову фотографию Дванова. Здесь, напротив, подчеркивается неотличительность лица. Портреты платоновских героев как бы и должны быть именно такими - внешне незапоминающимися. Сам автор намеренно устраивает так, чтобы мы не могли отличить их друг от друга - все они как бы немного на одно лицо:
Софья Александровна глядела на фотографию. Там был изображен человек лет двадцати пяти с запавшими, словно мертвыми глазами, похожими на усталых сторожей; остальное же лицо его, отвернувшись, уже нельзя было запомнить. Сербинову показалось, что этот человек думает две мысли сразу и в обеих не находит утешения, поэтому такое лицо не имеет остановки в покое и не запоминается.
- Он не интересный, - заметила равнодушие Сербинова Софья Александровна. - Зато с ним так легко водиться! Он чувствует свою веру, и другие от него успокаиваются. Если бы таких было много на свете, женщины редко выходили бы замуж (Ч:242).
Но разве не примечательно, что даже по такому скупо очерченному, крайне нехарактерному и увиденному всего лишь один раз (за чаем у новой знакомой) изображению на фотографии - позднее, оказавшись уже в Чевенгуре, Сербинов сразу же узнает Сашу Дванова! Казалось бы, как же так? С одной стороны, в словесных портретах - полное "усреднение" и неразличение лиц героев, а применительно к себе или к любому сколько-нибудь дорогому, "сокровенному" для него персонажу вдруг такая повышенная требовательность, такое нежелание ни на кого (и ни на что) даже быть похожим?
По-моему, выраженные здесь идеи очевидно дополняют друг друга. Платонов в этом верен себе: внешний облик ему не важен именно потому, что он слишком беден для передачи внутренних отличий, например, отличий меня от другого. Описание, к примеру, красоты чьей-то женской головки, глаз или ножек является слишком "дешевым" для Платонова ("сделанным" до него) приемом, он сознательно не хочет вписываться с его помощью в литературный контекст, не хочет позволить себе чужими инструментами играть на чувствах и переживаниях читателя. Как будто всякая литературно "апробированная", гарантированная правильность, выверенность и дотошность в описании внешности ему претит и для него постыдна (исключая описание уродств и вообще некрасивого - как раз для них он делает исключение: можно считать его поэтому последователем в каком-то отношении эстетики авангарда, как это модно сейчас, но в целом это очень узко). Платонов считает достойным писательского ремесла описывать только внутреннюю суть явления - ту предельную (уже "синтетическую", как назвал бы ее Филонов) реальность, которую нельзя увидеть обычным зрением. Для этого и служат его постоянные диковинные переосмысления обычных языковых выражений и загадывание читателю загадок.
Итак, как мы убедились, двойственность описания, ведущегося как бы одновременно с прямо противоположных точек зрения, скрывает за собой область повышенного интереса Платонова - внешность совсем не не важна для него, как можно было подумать вначале, и он отказывается от описания ее не просто для того, чтобы выделить себя новым приемом, но именно из-за особой стыдливости, своеобразного платоновского "воздержания", неприятия заштампованного и лживого, с его точки зрения, языка описания человека - в качестве стандартного объекта приложения литературного ремесла. И в этом, как почти во всех своих заветных мыслях, Платонов доходит до крайностей и парадоксов. Красота человеческого тела "снимается" через уродство.
Даже проявление чувств у героев Платонова носит характер парадокса: когда видится одно, на самом деле это означает, разъясняет нам Платонов, совсем другое:
Гопнер с серьезной заботой посмотрел на Дванова - он редко улыбался и в моменты сочувствия делался еще более угрюмым: он боялся потерять того, кому сочувствует, и этот его ужас был виден как угрюмость (Ч:220).
Мотив "сокращенности" и уродства человеческого тела, такой важный для Платонова, вплетается в противопоставление бодрствования (как жизни сознания), с одной стороны, и сна (как жизни чувства, царства бессознательного, стихии), с другой. Тут и оказывается, что только во сне у людей "настоящие любимые лица", а то, что предстает при свете дня (что остается от настоящего человека) - всегда неистинное. Последнее и воплощается, в физическом плане - в образе калеки, человеческого обрубка, урода, недо-человека, (тут и инвалид Жачев или тоскующий "почерневший, обгорелый" медведь-молотобоец в "Котловане" (К:251), горбун Кондаев в "Чевенгуре" или Альберт Лихтенберг в "Мусорном ветре", который варит суп из собственной ноги! - и многие другие). Если идти еще дальше, эта же идея воплощается и в том изуродованном, самого себя насилующем языке, на котором говорят почти все платоновские персонажи (и вынужден говорить, за редкими исключениями, сам платоновский повествователь). Если истерзанное и изуродованное жизнью тело - это как бы платоновская стыдливая замена (Aufhebung) всего "слишком роскошного", телесного и чувственного в человеке, то самооскопленный, порой юродствующий, почти всегда подчеркнуто неправильный и некрасивый язык - это уже платоновская сублимация ментального плана. Такие преобразования, согласно Платонову, и должны в идеале свести человека к "человеку разумному", как к голому интеллекту, содрав с него наружную кожу - кожу (животного) чувства и несовершенной пока души, обнажить в нем то, ради чего стоит за него бороться.
Платоновское описание внешности человека - какое-то мямлящее и будто проговаривающее что-то скороговоркой, - как и сами тела его героев уменьшенные, усушенные, сокращенные, максимально "стушевавшиеся". Вот в "Реке Потудань" возвратившийся с войны Никита видит через окно избы своего отца:
Старый, худой человек был сейчас в подштанниках, от долгой носки и стирки они сели и сузились, поэтому приходились ему только до колен. Потом он побежал, небольшой и тощий, как мальчик, кругом через сени и двор отворять запертую калитку (РП:422).
Изнуренность работой, "истраченность" жизнью делает из чевенгурских прочих каких-то просто не-людей:
...Слишком большой труд и мучение жизни сделало их лица нерусскими (Ч:174).
В крайнем случае, внешность героя, конечно, может описываться, но только - как нечто странное, отталкивающее, ненормальное, во всяком случае, не привлекающее к себе:
...В теле Луя действительно не было единства строя и организованности была какая-то неувязка членов и конечностей, которые выросли изнутри его с распущенностью ветвей и вязкой крепостью древесины (Ч:129).
Еще один шаг, и такое описание будет близко кафкианскому ужасу перед собственным телом. Вот запись в дневнике Сербинова (это персонаж, наиболее близкий к "безразличному наблюдателю, евнуху души" в "Чевенгуре"):
Человек - это не смысл, а тело, полное страстных сухожилий, ущелий с кровью, холмов, отверстий, наслаждений и забвения... (Ч:240)
Настоящие "портретные" черты в описании героев появляются, как правило, именно тогда, когда описываются деформации, уродства, когда внутренняя ущербность в человеке высвечивает наружу (в этом можно видеть "гоголевское" наследие в платоновской манере или, во всяком случае, то, за что Гоголя обвиняли - Розанов, Белый, Переверзев и другие исследователи его творчества; но это скорее уже не портрет, а маска или даже пародия такого описания):
...У калеки не было ног - одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги (К:173).
Sic: деревянный костыль как отросток ноги - повторяющийся мотив у Платонова и в дальнейшем ("Счастливая Москва" и др.).