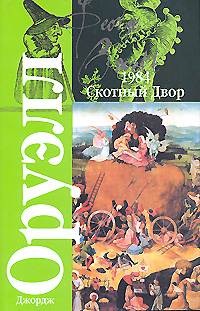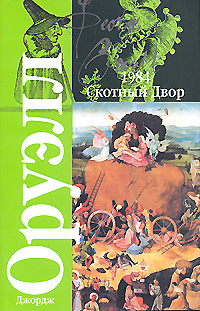Человек нашего столетия
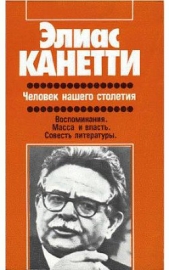
Человек нашего столетия читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По Конфуцию можно с особой ясностью усвоить, как возникает и утверждается образец. Для этого прежде всего необходимо, чтобы человек сам был увлечен каким-то образцом, которого он придерживается при всех обстоятельствах, в котором не сомневается, от которого никогда не отрекается, которого хотел бы достичь, но вполне достичь не может. Даже если удастся его достичь, признать, что он достигнут, нельзя. Ибо достигнутый образец теряет свою силу. Он питает лишь того, кто от него на большом расстоянии. Попытку преодолеть это расстояние, попытку, так сказать, вплотную подступиться к образцу надо все время возобновлять, но она не должна удаваться. Пока она не удается, пока расстояние остается в силе, можно снова и снова предпринимать прыжок в том направлении. Все дело в этих, казалось бы, тщетных попытках, казалось бы тщетных, ибо в ходе их одно за другим приобретаются опыт, способность, качество.
Конфуций помещает свой образец на большом расстоянии от себя. Это властитель Чжоу, живший за 500 лет до него [70], которому приписывалась большая часть уложений нового тогда царства. Чтобы его постичь, Конфуций занимается всем, что происходило в те времена и с тех времен, историческими документами, песнями, обрядами. Он проверяет эти предания, сортирует их и располагает по порядку; позднее считалось, что все известное о том времени было установлено им. Образец является ему во сне [71], в более поздние годы его охватывает беспокойство, если он некоторое время ему не снится. То, что он не является, Конфуций воспринимает как знак неодобрения, слишком многое не удалось ему из того, что удалось властителю.
Но это не единственный его образец. Можно сказать, что всю китайскую историю, насколько он, по его мнению, ее знает, он группирует вокруг образцов; в начале каждой из трех сменивших одна другую известных династий, однако и непосредственно перед первой из них он помещает одну или две фигуры, которые благодаря своей образцовости надолго определяют время после себя. Он не только сознает огромное значение образцов, он знает также, что они изнашиваются, и потому заботится об их обновлении. Об их воздействии он узнает по себе и своим ученикам.
Князья, которых он пытается наставлять и которые не желают слушать, открывают для него антиобразцы. Как бы ни были они ему неприятны, он их не утаивает. Он вводит их в историю, а помещать предпочитает в конце династий. Но он постоянно заботится также о том, чтобы в истории их побеждали и смещали образцы.
Занимаясь таким способом своими образцами, он сам сделался образцом и, что примечательно, — образцом в значительно большей степени и на гораздо более долгую временную дистанцию, чем те.
«К молодому человеку, — говорит Конфуций, — надо относиться с большим уважением. Как можешь ты знать, не станет ли он в один прекрасный день столь же достойным, как ты теперь. Кто дожил до сорока или до пятидесяти лет, ничем не отличившись, не заслуживает уважения» [72].
Это суждение Конфуций проводил в жизнь в длительном общении со своими учениками. Как он их наблюдает! Как осторожно оценивает! Он остерегается повредить им преждевременной похвалой. Он оставляет их в покое и бывает счастлив, когда они заслуживают неограниченных похвал. Он не порицает, предварительно не отняв у порицания вредоносного острия. Он позволяет своим ученикам себя критиковать и отвечает им. При всех принципах, из которых он исходит, оценка характера остается у него эмпирической. Когда двое учеников находятся вместе, он спрашивает их о сокровеннейших желаниях и тогда выражает свои собственные. При этом почти не чувствуется порицания, скорее — столкновение различных натур.
Но он не скрывает также своей глубокой любви к Янь Сюю, чистому и в миру не преуспевшему; когда этот его любимый ученик умирает в возрасте тридцати двух лет, Конфуций не таит своего отчаяния.
Я не знаю другого мудреца, который бы серьезнее относился к смерти, чем Конфуций. На вопросы о смерти он отвечать отказывается. «Если еще не знаешь жизни, то как можешь знать смерть?» [73] Фразу на эту тему, которая была бы более уместной, никто никогда не произносил. Он прекрасно знает, что все подобные вопросы подразумевают время после смерти. Любой ответ на них перескакивает через смерть, а сама она и ее непостижимость исчезают, словно под руками фокусника. Если что-то есть потом, как что-то было раньше, то смерть сама по себе теряет свой вес. На этот недостойнейший из всех трюков Конфуций не поддается. Он не говорит, что потом ничего нет, он не может этого знать. Но создастся впечатление, что ему совсем и не важно это выяснить, даже если бы оно было возможно. Таким образом, вся ценность придается самой жизни, ей возвращается та серьезность и тот блеск, что у нее отняли, перемещая добрую, быть может, лучшую часть ее силы за грань смерти. Так что жизнь остается полностью такой, какая она есть, да и смерть остается нетронутой, они не взаимозаменяемы, не сравнимы, они не смешиваются, остаются различными.
Чистота и человеческая гордость этого убеждения вполне согласуются с тем эмфатически преувеличенным почитанием умерших, какое мы находим в «Ли-цзи» [74], ритуальной книге китайцев. Самое достоверное, что я когда-либо читал о приближении к умершим, об ощущении их присутствия в дни, посвященные их памяти, содержится в этой ритуальной книге. Это вполне в духе Конфуция, и, хотя в такой форме оно было записано лишь позднее, это именно то, что всегда ощущаешь при чтении его «Бесед». Сочетанием нежности и упорства, какое трудно найти где-либо еще, он старается усилить чувство почтения к некоторым умершим. Слишком мало внимания обращалось на то, что таким образом он пытается ослабить жажду жизни, — это одна из самых щекотливых задач, которая по сей день ни в коей мере не решена.
Кто три года горюет об отце, то есть полностью и надолго прерывает свою привычную деятельность, не может радоваться своему выживанию, всякое удовлетворение от него, даже если бы оно еще было возможно, будет окончательно вытравлено в ходе обязательного соблюдения траура. Ибо в это время надо также показать, что ты достоин отца. Сын перенимает его жизнь во всех подробностях, становится им, но именно благодаря непрерывному поклонению. Отца не только не вытесняют из памяти, но мечтают о его возвращении и в некоторых обрядах добиваются такого ощущения. Он продолжает существовать как фигура и образец. Человек остерегается быть к нему несправедливым, перед ним надо выдержать испытание.
«Через три дня опять начинают есть, через три месяца опять начинают мыться, через год под траурным одеянием носят опять чесучу. Самоистязание не должно доходить до уничтожения бытия человека, дабы смерть не повредила жизни. Траур не превышает трех лет» [75].
«Жертвы должны быть не слишком частыми, не то они станут обременительными и утратят свою торжественность. Но и слишком редкими они тоже быть не должны, иначе можно облениться и забыть умерших.
В день жертвы сын думал о своих родителях, он ясно представлял себе их жилище, их улыбки, звучание их голосов, их образ мыслей; он думал о том, чему они радовались, что с удовольствием ели. Если он таким образом три дня постился и предавался размышлениям, то он видел тех, ради кого постился.
В день жертвы, когда он входил в комнату предков, то напряженно ждал, что снова увидит их на почетном сиденье; расхаживая по комнате, выходя и входя, был сосредоточен, словно наверняка ожидал услышать, как они движутся или разговаривают; когда он выходил в дверь, то прислушивался, затаив дыхание, словно слышал, как они вздыхают».