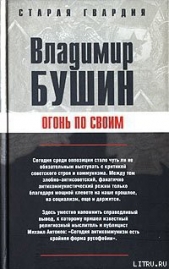Честь и бесчестье нации

Честь и бесчестье нации читать книгу онлайн
Имя писателя Владимира Бушина известно российским читателям по многим публикациям прошлых лет — статьям, сборникам стихов, прозы.
Сегодня его знают больше как одного из самых ярких публицистов, чьи статьи, появляющиеся в основном в оппозиционной печати, не могут оставить равнодушными даже тех, кто не разделяет его идейных позиций и не скрывает своего неприятия "красного" писателя.
В этот сборник вошли его работы последних лет, которые в совокупности своей образуют широкую панораму этих страшных дней в жизни России на историческом фоне сравнительно недавнего прошлого. Ход и перепады времени читатель увидит через невольное сопоставление многих и разных фигур — от Ленина и Сталина до Горбачева и Ельцина, от маршала Жукова до генерала Грачева. Перед нами проходит галерея демократических оборотней, лжецов, фальсификаторов, правителей, лишенных всякого понятия чести и совести, реформаторов, обрушивших народ в беспросветную нищету.
Глубокая убежденность патриота-государственника помогла ему рассеять страх людей перед властью, вернуть многим из них силу стойкости, самоуважение. Достаточно перелистать почту с откликами на статьи В. Бушина, чтобы понять, сколь велика и сегодня сила правдивого слова, как до сих пор ценится неподкупность таланта! Вот лишь некоторые строки из писем: "Так в России не пишет никто!"… "Помилосердствуйте! Вы заставляете хохотать до слез, до колик даже старух на завалинке"… "На чтение Ваших книг установилась очередь"… "Газету с любой Вашей статьей рвут из рук"… "Я буквально вцепилась в Вашу статью"… "Ваши доказательства и аргументация не уступают математическим"… И в то же время: "Ваши статьи — это "луч света в грозовую темень"… "Вы даже не представляете, как я жду Ваших статей!"… "Со слезами на глазах читаю и перечитываю"… "Статью о Павлике Морозове не мог осилить сразу — сердце подступало к горлу"… Или: "Раньше таких писателей называли выразителями народных дум"… "Спасибо за труд по спасению русской нации!"… "Если бы не такие, как Вы, нам нечем было бы дышать и жить"… "Мы умерли бы, если бы не читали Вас"… "Вы — пример для нас. В страшные дни 91-го и 93-го годов, когда все трусливо разбежались по своим демократическим норам, вы стояли во весь рост на виду у противника и не дрогнули. А такое, поверьте, выше всяких запоздалых раскаяний политиков…"
В одной из его книг читаем: "Просыпаясь поутру и зная, сколь мерзостный день тебя ждет, хотелось звать смерть. Было невтерпёж, саднило и жгло душу. Спасала только эта возможность — на газетных страницах защитить достоинство человека, сорвать роскошные одеяния с ничтожества, высмеять неуместные почести, назвать ложь ложью, глупость — глупостью…" Таково творческое кредо писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Гораздо шире, чем "Легенда о штанах", распространена легенда о том, что герой фильма "закалился в адском пламени XX века" (К. Кедров). Тут обычно имеются в виду главным образом два обстоятельства: "он прошел сквозь ад второй мировой войны" и "он прошел сквозь ад сталинских лагерей".
Ну, правильно, два ада. Взять первый из них. Было время, когда и сам Александр Исаевич уверял нас, что прошел все круги этого ада. Так, в письме IV Всесоюзному съезду писателей, что состоялся в мае 1967 года, он именовал себя "всю войну провоевавшим командиром батареи". После писал в "Архипелаге": "Я и мои сверстники воевали четыре года…" "Четыре года моей войны…" и т. п. И вот такую картину своего четырехлетнего ада рисовал: "Мы месили глину плацдармов, корчились в снарядных воронках… Господи! Под снарядами и бомбами я просил тебя сохранить мне жизнь…""…11 июля 1943 года. Еще в темноте, в траншее одна банка американской тушенки на восьмерых и — ура! За Родину! За Сталина!" и т. д.
Тут уж кое-кто не выдержал и довольно внятно сказал: "Уважаемый, и вся-то война четырех лет не длилась, а уж ваше участие в ней… Вспомните-ка…" Тогда он стал давать несколько иные, смягченные версии своего героического военного прошлого. Так, в автобиографии, написанной для Нобелевского комитета, читаем: "С начала войны из-за ограничений по здоровью я попал ездовым обоза и в нем провел зиму 1941/42 года, потом был переведен в артиллерийское училище и кончил его к ноябрю 42-го года. С этого момента был назначен командиром разведывательной артиллерийской батареи. и в этой должности непрерывно провоевал, не уходя с передовой, до моего ареста в феврале 1945 года".
Как видим, теперь получалось, что воевал Солженицын не "четыре года", не "всю войну", а лишь с ноября 1942 года. Именно о сорок втором годе говорит в фильме Говорухин, но, как уточнила Н. Решетовская, его первая жена, на фронте Александр Исаевич оказался лишь в мае 1943 года, когда в войне произошел перелом, наша армия перешла в решительное наступление, и победа, окончание войны стали вопросом только времени. О, это была уже другая война!.. А двух самых страшных лет военного ада с его отступлениями и котлами, горечью и отчаянием он не изведал. Не знал он, арестованный и отправленный в Москву 9 февраля 1945 года, и таких трудных, кровавых дел, как взятие Кенигсберга или Берлина, освобождение Будапешта или Праги. Так что если подсчитать, то получится, что прошел он не весь военный ад, а лишь 0,45 ада.
И ведь странный это был ад… Солженицын пишет, что утром 11 июля сорок третьего года, съев банку тушенки на восьмерых, голодный, невыспавшийся, он бросился из траншеи с винтовкой наперевес в атаку. А вот что сообщал в письме его жене Наталье Решетовской друг юности Николай Виткевич, побывавший у него в части именно в эти июльские дни: "Прокалякали ночь напролет… Саня за это время сильно поправился. Все пишет разные турусы на колесах и рассылает на рецензии". Действительно, корчась в снарядных воронках, Солженицын написал ворох рассказов, стихов. В то же время обдумывает серию романов, которую заранее озаглавил в директивном духе: "Люби революцию!" Потом сей грандиозный замысел преобразился в те самые турусы на красных колесах, которые теперь известны. Кроме того, в траншее он много читает: "Жизнь Матвея Кожемякина" Горького, книгу об академике Павлове, следит даже за журнальными новинками, прочитал, например, в "Новом мире" пьесу "Глубокая разведка" А. Крона и т. д. А в мае 1944 года он проделал такую ошеломительную операцию. Получил честь честью оформленные, со всеми необходимыми подписями и печатями фальшивые документы — красноармейскую книжку и отпускное свидетельство на имя своей жены, — а также необходимое женское обмундирование, и со всем этим направил сержанта своей батареи в Ростов: он должен привезти оттуда своему командиру жену. Порученец успешно справился с важным оперативным заданием: за две тысячи верст, через полстраны, жена Солженицына была доставлена прямо в окоп! Словом, оказавшись в аду и не найдя там Эвридики, Орфей решил выписать ее себе из Ростова. И вот она сама явилась к нему в ад.
Потом она вспоминала: "Немного побездельничав, я начала знакомиться с работой… Понять оказалось легко… В свободные часы мы с Саней гуляли, разговаривали, читали. Муж научил меня стрелять из пистолета. Я стала переписывать Санины вещи". Кроме того, они фотографировались. Фигурировать перед объективом — вечная страсть Александра Исаевича. Ну, все это, естественно, в редкие минуты, когда не было бомбежек и обстрелов, а Саня был свободен от обязанности бежать в штыковую атаку. И живет она в окопе не день-другой, а несколько недель. Муж хотел оставить ее при себе до конца войны, но как на грех назначили нового командира дивизиона, а тот не терпел баб с погонами, тем более — с фальшивыми. Пришлось расстаться… Вот такой кромешный ад. С ворохами писем, рукописей, рецензий, а иногда и с женой-переписчицей под боком.
Впрочем, это не помешало герою после войны бросить язвительный укор своему бывшему другу Кириллу Симоняну, хирургу фронтового госпиталя, к которому тоже приезжала жена: "Что же это за госпиталь такой фронтовой, где постоянно находилась и гражданская Лида?" И ведь в голову человеку не приходит, что могут и его спросить: "Что же это за передовая такая, что за траншеи и воронки, где вольготно гостевала будто бы военная Наташа?"
Тут пора, наконец, сказать, что же это за батарея, которой командовал Солженицын. Вначале он просто говорил: "батарея". И все думали, естественно, что речь идет об огневой батарее, о пушках, ведущих смертоносный огонь по врагу. И только в 1970 году уточнил: "разведывательная батарея". Еще через десять лет выдавил из себя: "Конечно, при всех случаях разведбатарея — это не пехота". И впрямь, уж такая не пехота… Герой фильма командовал или, лучше сказать, руководил батареей, оснащенной не орудиями, как батарея, которой командовал в 1855 году поручик Толстой при обороне Севастополя, а звукометрическими станциями СЧЗМ-36. Условия этой службы, как показано выше, были таковы, что выскакивать из траншеи и кричать "За Родину! За Сталина" муж Решетовской мог только в сугубо патриотических снах.
Может быть, совсем иначе обстоит дело со вторым адом, который прошел герой фильма, — с лагерным? Конечно, в лагере при всех условиях — это не у тещи на блинах, но в то же время все относительно, и только в сравнении открывается истина. Солженицына постоянно наперебой сопоставляют то с Толстым, то с Достоевским, то с обоими сразу. Вот и сейчас бакалавр искусств Константин Кедров уверяет: "Душа Достоевского и Толстого как бы продолжила свою жизнь в судьбе Солженицына". Прекрасно! Только заметим, что у Достоевского была своя душа, а у Толстого — своя. Одной на двоих им никак бы не обойтись. Дальше: "Солженицын, как до него Толстой и Достоевский…" и т. д. Замечательно! Однако, странное дело, после таких авансов почему-то мало конкретных сопоставлений, в частности, бакалавры совершенно обходят молчанием, не хотят сопоставить тюремные страницы биографии Достоевского и нашего знаменитого современника. А ведь тут можно увидеть много интересного.
Для бакалавров искусств, видимо, это будет большой новостью, но факт остается фактом: Солженицын порой говорит с большим раздражением о Достоевском вообще и особенно — о его "Записках из Мертвого дома". Никакая, мол, это не каторга по сравнению с тем, что пережил я. Уверяет, что цензура не хотела пропускать "Записки", опасаясь, что "легкость изображенной там жизни не будет удерживать от преступлений, и потребовала дополнить книгу новыми страницами". Это далеко от истины. Цензору барону Н. В. Медему действительно померещилась легкость, но в Главном управлении с ним не согласились, и книга вышла в свет безо всяких дополнительных страниц. Но вот нашелся защитник барона. С присущим только ему напором и дотошностью он перебирает пункт за пунктом едва ли не все обстоятельства ареста и условий каторжной жизни Достоевского и постоянно твердит одно: насколько мне было тяжелее! Что же, приглядимся кое к чему и мы…