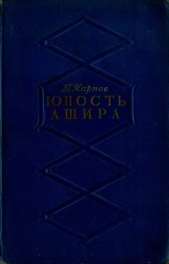Газета День Литературы # 54 (2001 3)

Газета День Литературы # 54 (2001 3) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Андре Жид в Сочи.
"Вчера А.Жид и его спутники посетили редакцию "Курортной газеты".
Около 12 часов наши гости отправились к писателю-орденоносцу тов. Н.А. Островскому.
Теплая и дружеская беседа на даче в кругу друзей и родных Н.О. продолжалась больше часа".
"Он писал с той же страстью, с бесстрашием и презрением к смерти, с каким он скакал на коне по улицам взятого им города, когда сзади разорвался польский снаряд, ударивший его осколком в спину".
Виктор Кин
Из какой точнейшей, из какой мощнейшей метафоры Виктора Кина, из какого изящнейшего мастерства, из такого тонкого намека о жизни, о подвиге Островского: "…КОГДА СЗАДИ РАЗОРВАЛСЯ ПОЛЬСКИЙ СНАРЯД, УДАРИВШИЙ ЕГО ОСКОЛКОМ В СПИНУ".
То есть Павел Корчагин был такой бесстрашный, что никто не мог выйти на бой с Корчагиным, с Островским лицом к лицу.
И враг, который всегда подл, хорошо понял, что Островского можно взять, можно убить, но только в спину, только подкравшись, только подсыпать яд, только незаметно, только коварно.
И выходить только на горизонт, только на "Тревожную молодость".
"И СНЕГ, И ВЕТЕР, И ЗВЕЗД НОЧНОЙ ПОЛЕТ, МЕНЯ МОЕ СЕРДЦЕ В ТРЕВОЖНУЮ ДАЛЬ ЗОВЕТ".
И никак не успокоится сердце, не успокоится мозг. Потому что такие люди, как Островский, и физически должны быть бессмертными. Конечно, освободившись от пронизывающих болей.
8.12.2000
Сочи
Петр Краснов ПОБЕДИТ ЛЮБОВЬ (Из записных книжек)
Можно ли считать полноправным литературным жанром такие вот записи, которые довольно часто ведут литераторы, да и не только, впрочем, они? Пожалуй, вовсе необязательно думать над сущностью жизни в формах романа, художественного произведения вообще или философского исследования. И если не "остановить мгновенье", то хоть оставить память о некоторых моментах, ситуациях жизни и мысли, пусть не самых важных и значимых, но так или иначе об этой жизни свидетельствующих.
Всходили, всплывали в вагонном окне мертвые ночные солнца и заходили. Плыл вагон вдоль чужого пустынного перрона, в чужой чьей-то неспокойной ночи с голосами невнятными и тревожными, торопливыми шагами, скрежетом чемоданных колесиков по асфальту; и, сквозь сон показалось, сразу же об отправлении провещали с высоты, почти надмирной, пробубнили; и с тоскою накатившей, разом проснувшись вдруг, он подумал: отправленья, прибытия — все в чужое, в чуждую, холодную тебе жизнь… когда ж своя будет? Когда не в городе своем — что город — но в жизни своей проснешься… где она, жизнь твоя единственная, единая? За пределами ночей этих, дней, лет суеты — настоящая где?
* * *
Фронтовик, побывавший и в плену, и в лагерях своих, воркутинских, — правда, не за сдачу в плен, а позже, за два мешка пшеницы совхозной, рассказывает:
— Война — дело такое неизвестное… Бывает, завтракаешь в родной части, а ужинать… А сухарь грызешь в колонне, а немцы гонят, торопят. Такое дело…
В плену недолго пробыл, свои освободили при контрнаступлении; и продолжал воевать как все, как и положено.
— А вши… были вошки, были… К нам генерал раз заехал на «передок» — и тот пожаловался. Старшина ему: есть, мол, способ. Какой? А такой: вы в баньку, мы сейчас в час протопим, а форму в муравейник — мигом все обберут… В Закарпатье как раз стояли, в горах, леса кругом, муравейников этих там полно — тем и спасались. А то ешь пайку хлебную, а она вся шевелится…
* * *
На войне и свои были законы, рассказывал он же, — неписаные:
— Новую линию занимаем — окапываемся. Они, само собой, тоже. Те свое роют, мы свое, все на виду, друг дружку и не трогаем… зачем? Или так бывало, в разведке: встретятся где-нибудь на нейтралке — ну и разойдутся молчком. Они, то есть, к нам ползут, а наша группа — к ним… Главное, разведать, начальству доложить. А шум подымешь — что толку? Тут с обеих сторон дадут прикурить, покрошат… Нет, в обороне-то еще ничего. Но уж окопались когда — тут, было, заданье давали, чтоб не спали дюже. Этот, как его… беспокоящий огонь. Обязательный расход, да. На станковый пятьсот на ночь, на «ручник» двести, кажись, а на винтовку двадцать патронов, штука в штуку. И пали. Пальнешь, а в тебя из миномета, у них много их было. А наши рикошетом — пушками; чего-чего, а пушки дай Бог были наши. За ночь, глядишь, раненых несколько, а то убитые, такие вот игрушки. Не любили мы это, почем зря-то, да и немцы тоже. Их тоже заставляли, ракет они изводили — страсть. Другое дело — наступленье, тут-то надо… Тут из всех стволов.
* * *
— Я уже один раз жил при коммунизме — при военном. Тесть пошел за водой к Уралу, на щелок принести… в сапогах пошел, а вернулся босый, как в кино. Красноармейцы отняли: ты, мол, сидишь себе дома, на печи — походишь и в старых. И рваные отдали, а они даже-ть не лезут ему. А Чапай вон по-другому: что у богатеньких отбирал — то по дворам насильно раздавал, по бедным. Силком, это, да. И как отступать ему — тем и деваться некуда, только с ним, мужикам-то…
* * *
Война, азиатский глубокий тыл, военное училище в крепости кокандского хана: семи-восьмиметровые стены, голый кирпич, бойницы решетками забраны; а сразу же за стеной городской запущенный парк. На стене пятая полурота курсантов, под стеной — полупьяные от тоски по любви — девушки, не по своей вине недоступные, тоскующие по ним на стене, высоким, уже отделенным от них, отнятым у них.
Луна ранневечерняя, большая и спелая, сорок третий, стена эта, горячие глаза сверху, снизу тоже, — юность… Подходят девушки, переговариваются-перекликаются с ребятами, необнятыми, нетронутыми уходят. Уже сумерки быстрые накатывают, густеет под стеною тень; уж и ждать некого, нечего, когда появляется — одна. Совсем одна идет, жадными глазами смотрит наверх, "мальчики!.." — говорит и поцелуи посылает, а сама так глядит… И заводила их, гитарист, не глядя сует кому-то гитару — и, сапоги подтянув, прыгает…
Война, и потому самоволка — это штрафбат почти, тут неподалеку он, под городом; а в лучшем случае «губа» и сверхголодный паек. Война — и спелая, соком и светом наливающаяся луна над весенним, тепло веющим вечером. И еще на лету, в прыжке, взята она была им, уже его была. И в жидком кустарничке под стеною тоже, почти под глазами всей пятой полуроты, молчащей полуроты, взял все, что положено девятнадцатилетнему солдату. А она все глядела туда, кажется, наверх, не утратившими жадность и жалость глазами и всем им, голодным и молчащим, отдавалась, всем до единого, а не только этому мучающемуся в мужской неутолимости на ней юноше, которого уже взяла и вряд ли отдаст теперь война…