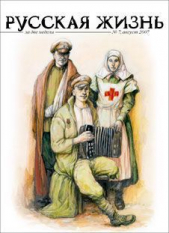Русская жизнь. Вторая мировая (июнь 2007)

Русская жизнь. Вторая мировая (июнь 2007) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ведь и в делах любви, супружества подмога нужна и везение: а как же. Приданого нынче нет (вот кому мешало? Прекрасный был обычай - копить девочке приданое), стало быть, вся нагрузка - на личные качества. Внешностью не выйдешь, не повезет - и все, пропадай, жизнь. Какая страшная нагрузка на личные качества! И вот они стригут, бреют, выщипывают, красят, моют, худеют, наращивают - а потом бегут к своей Ксении. На бегу шарфиком замотав бедовую голову: в царстве строгости с непокрытой головой не принимают. Ну ладно. Ну, помаду сотрем, а потом сызнова намажем: у вас одно, а в миру другое, кто на меня без помады-то и взглянет?
Тут обнаружилось совсем смешное: оказывается, Ксению Блаженную избрали своей покровительницей трансвеститы. Нашли основание: она же в мужскую одежду переоделась, мужнин мундир носила. Стало быть, и у эдакой земной загогулины, как трансвеститы,- они считают, - есть свой кусок благоприятствующего неба, свой благожелательный святой. К трансвеститам могут вполне присоединиться и актрисы амплуа травести - отчего бы им тоже не получить клочок благожелательного неба? Раз уж завелась такая область Божьего попущения.
Завелась или нет? Царство строгости ценит Блаженную Ксению за одно, а народная молва за другое. Царству строгости важен отказ от мирского имущества и странничество, а людскому сердцу нужна вся поэтическая история Ксении целиком, с безумием от любви, мундиром Андрея Федоровича и деятельной послесмертной подмогой в делах супружества. А если небо к нам не сойдет, мы же станем штурмовать небо. И вот в культе Блаженной Ксении уже и не разберешь первоначального текста, так густо лежат на нем наслоения человеческой мечты.
печально недоумевала в зонге героиня Бертольда Брехта. Действительно, так просто: а вот не дано же, многим не дано. Счастье в браке - редкая птица. Никак не устроиться одними своими силами. Да и Ксения с мужем три года только пожила, а если бы двадцать? Кто знает? У Ксении Блаженной уйма работы: количество просьб по одному лишь Петербургу неимоверно, а ведь часовни и церкви Ксении стоят повсеместно. Святая, конечно, хлопочет. Те четыре брака из десяти, которые не распадаются и тихо накапливаются в глубинах ежегодной статистики, - вестимо, ее рук дело. Ксения-то помогает, но кто поможет Ксении? Осознаем грустный факт: земля более не питает небо святыми.
Да, и грязная, и грешная, и пропитанная кровью и пороками, - но другой почвы для произрастания святых душ у неба нет. Иссякнут источники святости и блаженства здесь - наступит острейший кадровый дефицит и там. И тот процесс, что превратил молодую столичную замужнюю жительницу Ксению Петрову в Блаженную Ксению, заглохнет, прервется. Останутся только наши вопли и просьбы. А кто, спрашивается, будет обеспечивать небо кадрами?
- Призываете нас стать святыми?
Ну, не так резко, граждане. Начнем с элементарной праведности.
Ведь чего нет на земле - откуда возьмется в небе?
Часовня стоит, свечечки горят, люди молятся. Ладно. Хорошо. Пришли в православную часовню, не к какой-нибудь ясновидящей Капитолине из тех, что обещает «приворожу мужа навсегда и насмерть, разлука с разлучницей вплоть до отвращения, гарантия 100%». Здесь гарантий никаких нет. Здесь покоится та, в чьей жизни все было просто и честно.
Дмитрий Быков
Имеющий право
1 июля исполнится сто лет Варламу Шаламову

Вероятно, русская литература - которую в этом смысле трудно удивить - не знала более страшной биографии: впервые был арестован в 1929 году за распространение ленинского «Письма к съезду», отсидел три года на Вишере, вышел, сел в 1937 году как троцкист, получил пять лет, в лагере похвалил в каком-то разговоре эмигранта Бунина и накануне освобождения получил еще десять; в пятьдесят первом был расконвоирован, но уехать смог только в пятьдесят третьем, с пятьдесят четвертого жил под Москвой, с пятьдесят седьмого - в Москве, печатался чрезвычайно скупо, а когда рассказы попали за границу, вынужден был в 1972 году опубликовать отречение в «Литературной газете» («проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью»). Из-за этого отречения поссорился с любимой женщиной, остаток жизни прожил один. Страдал болезнью Меньера, приводящей к внезапным припадкам дурноты, головокружениям, обморокам, нарушениям зрения, слуха и координации. В семьдесят девятом был помещен в литераторский дом престарелых в Тушине. Там ослеп и оглох, закапывал себе в глаза зеленку, путая ее с глазными каплями; прятал в подушку сухари; никого не узнавал. Из дома престарелых его перевезли в интернат для психохроников, откуда живыми не выходят. Привязали к стулу и так везли, в январе, в мороз. Одели плохо, он простыл и умер от воспаления легких 17 января 1982 года, в год первого полного издания «Колымских рассказов» за границей (однотомник, правда, вышел в Лондоне в 1978 году, когда Шаламов уже почти ничего не видел).
Пытаешься отыскать какие-то проблески счастья в этой судьбе - и не можешь. Шаламов отучил от такого взгляда на вещи: отыскивать золотые крупицы - уже компромисс, попытка адаптировать жизнь, раскрасить ее до состояния переносимости. А этого нельзя, это бегство. В «Колымских рассказах», состоящих из шести самостоятельных сборников, нет ни единого оптимистического - да что там, ни одного хоть сколько-то утешительного, даже об освобождении сказано так, что не расслабишься. Описывая душный переполненный вагон, где все давятся, орут и грызутся, Шаламов замечает, что он-то и запомнился ему как первое счастье, «непрерывное счастье воли»; но если ЭТО видится счастьем - ясно же, от какого минуса отсчитывает человек? Шаламов в одном из стихотворений писал, что вынес все, что можно вынести, - и не преувеличивал. В разоблачении этих ужасов он шел все дальше. В первых рассказах еще как-то щадил читателя, «делал литературу», выводил себя под чужими именами. Впоследствии отказался от всякой беллетризации, часто повторялся, вдалбливая одну и ту же мысль, фиксировался на физиологии, переходил все границы, к которым привыкла целомудренная русская литература, ничего не стеснялся, докапывался до камня, до мерзлоты, до последней правды, отбрасывал любые утешения. У голодного человека нет ни иллюзий, ни абстракций. Он хуже зверя, ибо у зверя до последнего цел инстинкт - а тут и инстинкта нет: всем все равно. Последней умирает не надежда, а злоба. Злоба - самое живучее из чувств, Шаламов повторяет это несколько раз.
Он высказал некоторые вещи, за которые полагалось бы, я думаю, благодарить его вечно. Чего стоит хотя бы мысль о проклятии физического труда, о том, что любить его невозможно и что проповедь любви к нему есть омерзительная, циничная ложь. Или столь же крамольная мысль о том, что интеллигенция ни перед кем ни в чем не виновата и навязанный ей комплекс вины - такая же мерзкая спекуляция, как воспевание радостей труда. Или фраза о том, что лагерь с начала и до конца есть полное и абсолютное зло, растление, потому что страдание еще никого не сделало чище, а проповедники очистительной и воспитательной роли страдания заслуживают того, чтобы вечно проверять свою теорию на практике.
Или, наконец, потрясающие по силе ненависти «Очерки преступного мира», сорвавшие с блатоты все и всяческие маски, флер романтики, нимб героизма. Тут уж всем досталось за романтизацию блатных - от Горького до Сельвинского, от Каверина до Инбер. Ласковое блатное зверство описано у Шаламова с той же степенью пластической убедительности, с такой физической достоверностью, с какой описывал он разве что муки голода, - и после чтения Шаламова действительно хочется немедленно отрезать кусок хлеба и жадно сожрать, наслаждаясь хоть этим правом.