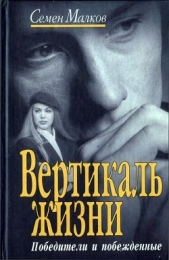Советская литература: Побежденные победители

Советская литература: Побежденные победители читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так или иначе, Эренбург оказался в историческом — хотя бы временном — выигрыше, оставшись в общественной памяти человеком европейской культуры, словно бы отстраненным от привычного представления, что такое «советский писатель». «Советский человек». И вот этого слова — выигрыш — ну никак не скажешь применительно к писателю несравненно более одаренному, чей талант увлекающийся Горький приравнял к таланту его однофамильца. Речь об Алексее Толстом.
Он, также считавшийся попутчиком (что в его случае было индульгенцией со стороны власти, простившей ему и графский титул, и эмиграцию, где он вел себя никак не лояльно по отношению к большевикам: Иван Алексеевич Бунин говаривал, что как бы враждебно ни был настроен к ним, но все же не призывал загонять им иголки под ногти, как «Алешка Толстой»), словом, определенный в попутчики, он проделал такой путь, что полностью заслужил право считаться своим.
Толстой, по словам Корнея Чуковского, завершал собою «вереницу наших усадебных классиков», успев перед завершением создать один из своих безусловных шедевров, нежнейшую повесть Детство Никиты (1922), — стоит, правда, добавить, что завершил вереницу не он сам, о переворотах и не помышлявший. Завершила — революция, от которой «третий Толстой», как озаглавил Бунин очерк-памфлет о своем бывшем друге, бежал; потом вернулся домой, гонимый и тоскою по родине, и расчетом. А не будь революции, как бы все повернулось?
Как-нибудь по-иному, но не большевики заразили душу Толстого, органически настроенную на конформизм (как его плоть была настроена на барственность и комфорт) пристрастием к тем, в чьей власти — давать или распределять материальные блага. «До катастрофы» — к толстосумам Москвы и Петербурга, в эмиграции — к тамошним меценатам, в СССР — к «комиссарам». В этом смысле он менялся мало. Например, Бунину, который, презирая его, и в памфлете не мог скрыть восхищения талантливостью «Алешки», в Париже хвастал умением широко жить за чужой счет: «Я не дурак, — говорил он мне, смеясь, — тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто… Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны…». А встретившись с Буниным там же, но уже наездом из советской страны, уговаривал того возвращаться при помощи таких же материальных аргументов: «Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету…».
Вот странность, однако: все это почему-то не раздражает — во всяком случае не так сильно, как раздражало бы, исходя из чьих-то иных уст. Даже Бунин настроен весьма иронически, но не слишком зло — это он-то, с его лютым нравом! Потому что в самой этой радостной жадности есть нечто детское.
Мысль не нова. Об этом писал еще Чуковский в статье 1924 года. Выдерживая свой тогдашний фельетонный стиль (заставлявший объявить Брюсова поэтом прилагательных, Леонида Андреева — пишущим помелом на заборе, Горького — поделившим все человечество на Соколов и Ужей), он видел в прозе Алексея Толстого «энциклопедию человеческой глупости», а его любимых героев объявлял жизнерадостными дураками. Правда, потом, словно смягчаясь, с любовью, победившей фельетонный задор, называл мир Толстого «Чудесной Страной Легкомыслия», а Детство Никиты — «Книгой Счастия», добавляя: «Повесть о многих превосходных вещах (первое и, может быть, наиболее выразительное название. — Ст. Р.) именно потому и является лучшим произведением Алексея Толстого, что в этой повести мерилом вселенной поставлен немудрый девятилетний младенец».
И — уже обобщая: «…Какими бы мастодонтами ни были герои Алексея Толстого, все они по уму и сердцу — младенцы… Это ряженые мальчики и девочки… Инфантильность — главное качество героев Алексея Толстого».
Упрек? Да ничуть! Тот же Чуковский, процитировав фразу из Аэлиты (1923): «Мудрость, мудрость, — будь проклята; неживая пустыня», так истолкует смысл рассказа Граф Калиостро (1921): «Все измышления, все чудесные знания, вся логика, которой так гордился Калиостро, рассыпались прахом перед одним только словом люблю, сказанным белою Машенькой молодому поручику, 19-летнему Алексею Федяшеву». Стало быть, «глупость», «легкомыслие», «инфантильность» и уж совсем ужасное для соцреализма слово (которое еще можно было произнести в 1924 году, не поставив автора под удар) — безыдейность, чуждость «каким бы то ни было большим или малым идеям», — все это синонимы свойства, которое до чрезвычайности нравится знаменитому критику в знаменитом писателе: «бессознательной мудрости». Влюбленности в жизнь за то, что она — жизнь в любых своих проявлениях (на низменном уровне — хотя бы и в жадности к материальным благам). Отчего в повести Необычайные похождения Невзорова, или Ибикус (1925) по-своему обаятелен даже жизнеспособнейший плут и мерзавец Невзоров, переполненный детской витальной силой.
Легко догадаться — тем более зная, в каком направлении развивался талант Толстого, — что то же самое свойство способствовало именно этому, такому развитию. В чем — ни малейшего парадокса.
Есть легенда, будто самое холопское из своих сочинений, повесть Хлеб (1937), поставившую Сталина во главе обороны Царицына, Толстой написал за несколько дней, оповещенный кем-то о сроке своего грядущего ареста. Но этого не было. Хлеб и писался ради надежно-обильного хлеба, и если даже такому таланту не удалось одеть политический миф убедительной плотью, то виною была крайняя убогость самого мифа, не разбудившего в художественно конформистской натуре Толстого, действительно по природе своей равнодушной к «большим или малым идеям», соприродного ей вдохновения. Нередко — удавалось-таки. И при всей вопиющей неровности трилогии Хождение по мукам (1921–1941), даже в ней немало блестящих страниц.
Тем более пышет талантливостью роман Петр Первый (1929–1945). Этому словно не помешала — да в самом деле не помешала, без оговорок — крутая перемена позиции, косвенно или прямо продиктованная Сталиным, который сознавал себя продолжателем дела Петра. (Пока, не разочаровавшись в «Петрухе», каковой, по его же словам, «не дорубил», не выбрал в кумиры Ивана Грозного — и Толстой, уже непосредственно получив официальный заказ, сочинил о нем драматическую дилогию, опубликованную в 1943 году: Орел и Орлица, Трудные годы. Правда, это по уровню ближе к Хлебу, а не к Петру.)
Характерно — именно для Толстого, — что рассказ День Петра (1918) и пьеса На дыбе (1929), где тот же царь Петр воспринимался с ужасом, пусть зачаровывающим, написаны ни лучше, ни хуже романа. Перемена концепции, что в ином случае означало бы катастрофическую измену своему дарованию, обрушило бы произведение (припомним Фадеева с его Черной металлургией), не отразилась на пластике прозы Толстого, на ее соблазнительной плотскости.
Говорят, что его отношение к Петру в данном случае просто совпало с отношением Сталина. Ой ли? Скорее, не говоря уж о силе таланта, который сам по себе сопротивляется идеологизации (и сдастся, спасует, когда задача будет слишком убога, а материал слишком не увлекателен для художника, как и случилось с Хлебом), тут сыграла чудесную роль та самая «безыдейность», уникальная, неповторимая, как все чудеса. Другим, безоглядно ставшим на путь конформизма («самоубийства»), это с рук не сошло.
Отличник, наемник, заложник, святой…
Да, у других не выходило, как у Алексея Толстого. Жестко идеологизированная, по-партийному или по-военному иерархическая система советской литературы руководила развитием таланта, если таковой наличествовал, ничуть не менее властно (может, и более: партийная дисциплина!), когда речь шла о тех, кто сам представлял и организовывал эту систему. Создавал среду, на которую восставал в Дневнике, все-таки подчиняясь ей, талантливый Юрий Нагибин и в которую органично, почти грациозно вписался талантливый Сергей Михалков.