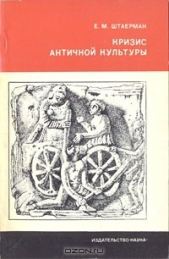Откровения телевидения. Составитель и редактор А.П.Свободин

Откровения телевидения. Составитель и редактор А.П.Свободин читать книгу онлайн
Авторы книги выбрали из огромного числа телевизионных передач десять таких, которые явились в свое время подлинными открытиями, обогатили наше искусство. Они не только рассказали об их передачах, но и предложили тем, кто их сделал, раскрыть, «как это делается». В книге читатель найдет статьи о телеспектакле «Кюхля», передаче «Тагильская находка», документальном фильме «Год 46-й» из широко известной серии «Летопись полувека», о многосерийном историческом фильме «Операция „Трест“», теледетективе «31-й отдел», о передаче в жанре фантастики — «Солярис», телебалете «Ромео и Джульетта» и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кюхля не был ни гением, ни умнейшим человеком России, он был для них «просто человеком», а потому с ним и играть не стоило: себе дороже. Они не захотели с ним играть. А он играть не умел. Предчувствие гибели Юрский не играет специально — оно заложено в природе образа. И когда разражается 14 декабря и потом длинная сутулая фигура начинает метаться по городам и весям, возникая на экране, как волк, выходящий то и дело к флажкам, то почти физически ощущается, как все туже затягивается удавка, и мы видим, что метание Кюхли чем дальше, тем больше происходит скорее по инерции, чем из стремления спастись, ибо спасения нет, не будет и не может быть.
Рассказывая о гибели Пушкина, Вяземский пишет: «Разумеется, с большим благоразумием, с меньшим жаром в крови и без страстей, он повел бы это дело иначе. Но тогда могли бы мы иметь в нем, может быть, великого проповедника, великого администратора, великого математика; но, на беду его, провидение дало нам в нем великого поэта».
Слова эти можно отнести и к Кюхле, который не был, правда, великим поэтом; он был «просто поэтом», поэтом по своему человеческому складу, и этого одного было достаточно, чтобы он должен был неизбежно погибнуть. Опознанный, наконец, в Варшаве, он, как по принуждению, произносит своим глухим, протяжным голосом заученные слова о том, что он — крепостной барона Моренгейма, а в глазах его — уже почти полное безразличие и смертная тоска. Но когда его рукава касается лапа солдафона, и раздается голос: «Васька, держи его, это о нем давеча в полку объявляли», — он весь содрогается от этого оскорбительного насилия, как от прикосновения скользкой и холодной гадины, и, освобождаясь резким движением отвращения, с искаженным лицом и бешеными глазами, защищая себя от этого первого унижения, отрывисто и хрипло произносит гордое, дворянское: «A bas les mains!» И — все. Больше он уже не поэт, не дворянин и даже не коллежский асессор Вильгельм фон Кюхельбекер, а арестант, заключенный, ссыльный. Теперь его может хватать за руки любой унтер, последняя жандармская сволочь. Даже своих гордых слов: «Руки прочь!» — он уже больше не сможет сказать, потому что этого никто не поймет. Слова эти произнесет на маленькой станции Боровичи, в бешенстве отстраняя от себя руку жандарма, Пушкин, от которого за плечи оттаскивают Вильгельма, чтобы везти его дальше, в Динабургскую крепость. Но хотя Пушкин и может крикнуть: «Руки прочь!» и яростно трясет за грудь фельдъегеря, его самого то и дело хватают за плечи, за горло другие, невидимые и властные руки. И не пройдет и десяти лет, как его тайно, ночью, не в повозке, а на телеге, в черном гробу повезут из Петербурга, а в бумагах его будет рыться не какой-нибудь там ротмистр, а сам начальник корпуса жандармов. Да и сейчас он, Пушкин, может сколько угодно кричать и грозить, но ни дать Вильгельму денег, ни обняться с ним на прощание фельдъегерь ему не позволит.
Последние эпизоды спектакля — Сибирь — звучат как бы на низких нотах. Внешнего действия в этих эпизодах почти нет. И Кюхля в них участвует и существует не поступками — поступать он уже никак, собственно, не может, — а лицом, глазами и еще, как и на протяжении всего спектакля, — стихами. Юрский читает стихи Кюхельбекера как поэт. Нет: Юрский — актер, умеющий читать стихи, как поэт. Ибо он из тех — очень немногих — актеров, которые понимают и чувствуют особый вес, особое звучание и удесятеренную силу слова поэтического. Именно в моменты чтения стихов мы явственнее всего видим одновременно и героя — поэта Кюхельбекера, и чтеца-исполнителя — актера Юрского. Стихотворение приобретает в спектакле значение, равное значению эпизода или монолога. Стихи — та дорога, на которой расставлены вехи духовной жизни героя, вехи воплощения образа в актере, вехи всего спектакля, который я теперь беру на себя смелость назвать не просто телеспектаклем, но телепоэмой — такова лирическая и гражданская напряженность этого повествования.
Поэты, изображаемые в кино и театре, нередко, читая свои стихи, заботятся не о стихах, а о том, чтобы путем их чтения довести до сведения зрителей свою прогрессивность.
Юрский, читает ли он стихи в реальной обстановке какого-либо эпизода (экзамен в Лицее), или просто находится в кадре, вне связи с какой-то определенной сценой, или за кадром — всегда читает с одинаковым упоением звуковой стихией, музыкой — музыкой нередко в буквальном смысле слова, потому что иногда к голосу его присоединяется оркестр, интонация чтения легко и свободно ложится на музыкальную интонацию, и не важно, кто кого сопровождает и кто кому следует — голос оркестру или оркестр голосу. Ибо поэтическое слово обретает такую величественную симфоническую мощь, такую мягкую и глубокую музыкальность, которые вполне подстать оркестру. И вот, когда звучит этот необычный, протяжный, торжественный, завораживающий голос:
— и вдруг начинает думаться: а такой ли уж «посредственный» поэт Вильгельм Кюхельбекер? Почему же этот архаичный, тяжеловатый, часто не очень складный стих долго потом звучит в ушах и вспоминается неотступно? «Горька судьба поэтов всех племен, Тяжелее всех судьба казнит Россию…» Всю высокую поэзию, которая есть в этих скромных строках, Юрский сумел показать нам, ибо, любя своего героя, он с поэтическим благоговением произносит чистые и честные слова Кюхли, всею жизнью своей заплатившего за то, чтобы быть и остаться поэтом. И когда одинокий человек в длинном арестантском халате мечется передо мной взад и вперед по тюремной камере и исторгает из себя уже не голос, но почти вопль, и все же читает стихи, читает, как заклинание, как средство от помешательства, как оружие защиты и самосознания, — я верю этому как непреложному, неопровержимому документу: да, так вот именно метался Кюхля в каземате Петропавловской крепости, закутавшись в серый безобразный халат; да, так вот и читал он этим каменным стенам свои стихи — и старался читать их красиво и звучно, как и подобает читать поэзию; и именно таким был его голос — полубезумным и музыкальным, так и застыл он на этих каменных стенах:
Чем написаны эти строки? Голой душою — сказала бы Цветаева. Кем сделана эта поэзия? Гением или посредственным поэтом? Это здесь неважно. Здесь другой счет. «Петербург никогда не боялся пустоты… Московские площади не всегда можно отличить от улиц, с которыми они разнятся только шириною, а не духом пространства. Основная единица Москвы — дом, поэтому в Москве много тупиков и переулков. В Петербурге совсем нет тупиков, а каждый переулок стремится быть проспектом… Площади же образованы ранее улиц. Поэтому они совершенно самостоятельны, независимы от домов и улиц, их образующих. Единица Петербурга — площадь… Восстание 14 декабря было войной площадей».
В художественном произведении — в том числе и в романе Тынянова «Кюхля» — слова, фразы, эпизоды обладают способностью диффузии: они проникают друг в друга, сообщают друг другу дополнительный, глубинный, тайный, иногда неожиданный смысл. Фраза о петербургских переулках, кажущаяся на первый взгляд лишь остротой автора, обнаруживает свой скрытый драматизм. Это образ неразрешенного противоречия — противоречия, возникающего тогда, когда нечто стремится преодолеть обозначенные для него рамки. Это борение силы, вызванной к жизни новой реальностью, с мощным противодействием традиции. Такой же драматизм заключен и во всем портрете города. Дух пространства и свободы, дух площадей, дух преобразований дал Петербургу Петр — «революционная голова», как назвал его Пушкин. Те же площади с их «грозным, оцепенелым стоянием» 14 декабря решили спор в пользу «традиции» и «рамок», освященных деспотической волей того же Петра. Спектакль «Кюхля», как и роман Тынянова, рассказывает об этой трагедии, повествуя о судьбе поэта. Но, как и роман Тынянова, это не только рассказ об общественной трагедии и личной судьбе. Это поэма о человеке, о том, что личность жива лишь тогда, когда забывает о себе, когда стремится — чем бы это ни грозило — во имя любви к людям преодолеть свои пределы…