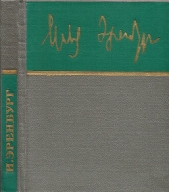Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так и не дознался я: отчего Урилов не беседовал с Зильбербергом, а прямо вышел на меня. Одно время я подозревал Вадика Столярова, но он ко мне почему-то питал дружеские чувства. Книжный должок не требовал. Удовлетворился Шпановым и «Золотым теленком».
И «Время, вперед!» плохая книга, и все производственные романы Гладкова, начиная с «Цемента», никуда не годятся, и «Гидроцентраль» ужасной Мариэтта Шагинян — ниже всякой критики. Шагинян выдавала на гора десятки бузовых производственных очерков, статей и зарисовок. Когда за это стали платить меньше, она перешла на философские эссе и крепко оседлала ленинскую тему.
Коммунистически ориентированные писатели Запада испытывали мощное влияние поднятой вокруг индустриализации шумихи. Луи Арагон бросил воспевать глаза Эльзы и зачем-то кинулся на Урал. Юлиус Фучик дважды приезжал в СССР — в 30-м и 34-м. Его корреспонденции печатались в пражских центральных газетах. Разумеется, Эренбург для такого рода предприятия — поездки для сбора материала — не имел достаточной подготовки. Приходилось ломать себя, овладевать специальными приемами, читать черт знает какую литературу, подробно беседовать с инженерным начальством и утопать в советских газетах. Партийные литераторы тратили меньше времени, с ходу отметая ненужное. Они знали, что пройдет, а что — для корзины или архива. Корзина и архив приравнивались к ОГПУ. Издательства поддерживали с означенным учреждением прямую связь.
Эренбург, однако, не сумел поставить по-настоящему советский эксперимент в чистом виде: совесть не позволила, и один из его незадачливых критиков, Алексей Гарри, справедливо подчеркнул позднее в статье, что Эренбург испытал «панический ужас» перед «хаосом новостроек». Катаев, Гладков и Шагинян похожего ужаса не испытывали. У них было все как надо. Алексей Гарри, репрессированный в ежовщину, в общем правильно подметил психологическое состояние Эренбурга после погружения в реалии России и правильно указал, что пятилетка возводится, по Эренбургу, на костях ударников — по сути, обманутых людей. Иной вопрос, какие ощущения пытался возбудить Гарри у сотрудников ОГПУ. Одна только деталь не соответствовала у Гарри действительности. Автор «Дня второго» не клеветал, он отражал существующее с помощью сложной системы зеркал. Это и избавило роман от забвения.
Конечно, более ловкие и более образованные партийные журналисты, более талантливые и умные, близкие к литераторам и литературе, такие, как Карл Радек, попытавшийся вписаться в сталинскую систему и выступивший с программным докладом на Первом съезде советских писателей, хотели из добрых побуждений несколько снивелировать острые углы, тщательно отструганные Эренбургом в «Ротонде», обстановка которой склоняла его к правдивому описанию событий. Карл Радек предупреждал парижского неофита: «Нашедший новую принципиальную установку, Илья Эренбург, наверное, возьмется за пересмотр багажа, собранного за время своей литературной работы, и произведет в нем честный и суровый отбор. Мы будем ждать новых творений, которые покажут, в какой мере ему удалась перестройка». Радек обоснованно подчеркивал, что роман Эренбурга не «сладкий». Автор не вводит в заблуждение читателей и не скрывает от них тяжелых условий советской жизни, но в «Дне втором» показано, куда идет действительность и что все эти тяготы масса несет «не зря».
Критик Владимир Новинский утверждал: «Рама „Дня второго“ сделана великолепно: материал обрамлен единым настроением — массовость, величие, размашистые захваты жизни стройки доходят до читателя…»
Другой критик, Дмитрий Гельман, в журнале «Октябрь» отвечал, что роман «проникнут бодростью, оптимизмом и верой в дело рабочего класса и его партии». Кто был прав — он или Гарри? Разумеется, Гарри, а не Гельман, пытавшийся спасти Эренбурга.
Начальник «Кузнецкстроя» Франкфурт считал книгу не сгущением, а отражением реальных сложностей и трудностей. Но на читательских конференциях, где присутствовали агенты ОГПУ, Эренбург подвергался резким нападкам. Те, на кого он рассчитывал и на чью поддержку надеялся опереться, очень часто уходили от прямого содействия. Ни Перцов, ни Ломинадзе не протянули руку помощи. Эренбург в одиночестве отбивался как мог. Кузнецк возведен, теперь надо трезво взглянуть на прошлое, как это прошлое создавалось и правильно его оценить: «…Мы имеем полное право говорить об этих трудностях. И после этого утверждать, что в романе „День второй“ я сгустил трудности, это — либо не знать об этих трудностях, что вполне допустимо, либо прибегнуть к определенной деформации материала».
Деформировать материал Эренбург не хотел. Тех же, кто занимался деформацией материала, хотя и знал не только о трудностях, но и о зверском характере социалистических строек, на читательских конференциях не полоскали и не предъявляли таких обвинений, какие навешивал на Эренбурга знаток нынешнего австро-марксизма и западной прессы Алексей Гарри.
Раздел под названием «Чекисты» поручили создать особо доверенным людям. Под этим углом зрения весьма интересно проанализировать состав авторов. Хотелось бы выяснить, какой кусочек противной прозы кому принадлежит. Черновики недоступны, да и вряд ли сохранились, но что написано пером, того не вырубишь топором. И если взять на просвет, допустим, позднейший текст, легко обнаружить необходимое для доказательства совпадение, которое выдаст автора с головой. «Чекистов» варганила усиленная бригада: Алымов, Берзинь, Всеволод Иванов, Катаев, Корабельников, Никулин, Рыкачев и Шкловский. Увы, все хорошо знакомые лица! В настоящих мастерах ходили трое. С подмастерьем Никулиным получится четверо.
Процитирую фальшивый, тем не менее, по своей умилительной интонации пассаж, в центре которого стоит одна из самых отвратительных фигур будущего НКВД, близкий друг и соратник Генриха Ягоды, пока еще заместителя председателя ОГПУ Рудольфа Менжинского, сам тоже заместитель начальника Беломорстроя и заместитель — одновременно — начальника Главного управления исправительно-трудовых лагерей ОГПУ Яков Давидович Рапопорт.
Четыре ромба в петлице, как и у его непосредственного руководителя комиссара госбезопасности 3-го ранга Матвея и тоже Давидовича Бермана, уже подружившегося с молодым Георгием Максимилиановичем Маленковым, восходящей аппаратной звездой, которую двигал по служебной лестнице сам Сталин.
Другого места не представится рассказать, где ихнего брата берут. Матвея Бермана взяли 24 декабря 1938 года, после отстранения Ежова. Взяли, вытащив из машины Маленкова, когда приятели собирались ехать на дачу Георгия Максимилиановича обедать. Через несколько лет — 13 августа 1949 года — Георгий Максимилианович собрал в собственном кабинете всех будущих жертв «ленинградского дела» и оптом сдал молодцам Абакумова без всяких околичностей, объяснений и стеснений. Обедать, как Бермана, не приглашал. Время изменилось. Вероятно, сдавал и других, потому как сидел долгое время на кадрах. Я не занимался Маленковым, но подозрения обоснованы. Надеялся Матвей зацепиться, да не суждено. Берия рубил под корень.
«В длинном зеленоватом коридоре, с десятками дверок налево и направо, встретился приятель-сослуживец, посочувствовал:
— И ты, Яков, едешь? — и, ожидая смущения перед новизною дела, жалоб на трудности, поспешил утешить. — Ничего, привыкнешь.
Но перед ним стоял всегдашний Рапопорт — большеголовый крепыш, тщательно выбритый, внимательно слушающий собеседника, готовый к сдержанному и в то же время обстоятельному ответу, законченному любимым присловьем „не так ли?“»
Конечно, не так, добавлю я. Все не так. О внешности гулаговцев стоит поговорить особо и к месту. Здесь же отмечу лишь попутно — провинциальные грубоватые черты, мясистость торса, коротконогость, напористость манер, взгляд прищуренный, с лукавинкой. Его воспринимали как свидетельство острого ума. Ум, возможно, и присутствовал в этом человеке, но вот с душой дела обстояли плохо.