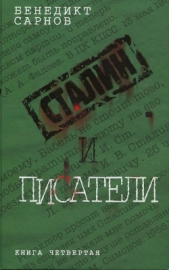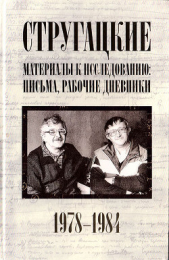Сталин и писатели Книга третья

Сталин и писатели Книга третья читать книгу онлайн
Третий том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» — как и второй том той же книги — состоит из четырех глав: «Сталин и Шолохов», «Сталин и Пильняк», «Сталин и Замятин», «Сталин и Платонов».
Эти четыре сюжета не менее — а в иных случаях и более — драматичны, чем те, с которыми читатель столкнулся в первых двух книгах трехтомника.
В главе «Сталин и Шолохов» Б. Сарнов включается в давние, а в последние годы с новой силой вспыхнувшие споры о том, кто был автором «Тихого Дона». Но его тут интересует не столько сама эта проблема, сколько отношение к ней Сталина: ведь именно Сталин пресек все «сплетни» о плагиате и «назначил» автором этой великой книги молодого Шолохова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
► Давыдов присел к столу, рассказал о задачах, поставленных партией по проведению двухмесячного похода за сплошную коллективизацию, предложил завтра же провести собрание бедноты и актива.
Нагульнов, освещая положение, заговорил о гремяченском ТОЗ.
Тут стилистический отрыв от основного стиля повествования прямо-таки разителен. Может даже показаться, что он отделен от него куда резче, чем первый стилистический слой от второго. Но это, в сущности, не так уж важно. Главное тут то, что все эти три слоя в «Поднятой целине» сосуществуют, не смешиваясь. Вот и выходит, что у этого романа по меньшей мере три автора.
Кто был автором первого слоя, мы уже выяснили: автор «протографа», первоначального текста «Тихого Дона». Кто был автором третьего слоя, гадать тем более не приходится.
А вот на вопрос, кто был автором второго — в сущности, основного — слоя романа «Поднятая целина», ответить уже не так просто.
В этом вопросе некоторую нерешительность проявил даже такой суровый и бескомпромиссный судья, как Солженицын.
Разбору «Поднятой целины» он посвятил специальную статью («Вестник РХД», № 141, 1984), в которой подверг этот роман уничтожающей критике.
Поначалу он не оставил от него камня на камне:
► ...Распялена по книге художественная неумелость (во 2-й части уже удушающая). Все мысленные монологи закавычены, шаблон литературного ученичества. Лишние пояснительности, где и без них понятно. В повествовании — вдруг беспомощная и неоправданная, почти малограмотная смена настоящего и прошедшего времени. Ошибки в речи персонажей, словечки передаются от одного к другому, как Давыдовский «факт». Совсем неправдоподобно, когда образ мировой революции вселяется уже и в Кондрата Майданникова, только портится Нагульнов. Повышенная слюнявость вокруг приезда агитколонны, бездельных лбов во главе с бывшим чекистом. Психология лишь самых примитивных ситуаций, нет человеческих неожиданностей, а уж глубины характеров и не спрашивай. Обоснований нет: то вот бригада Любишкина выручала правление как самый боевой отряд — то вдруг уклоняется пахать. Лирические сцены — на школьном уровне, в описании Вари сантиментальный пафос прямо от автора: «О чем ты плачешь, милая девушка?.. Ее чистая любовь наткнулась на равнодушие». Так и выписывает: «наступающая любовная развязка», «прожить в относительном спокойствии».
Но тут же — оговорка:
► ...С первых страниц ощущаешь, и потом уже не дают тебе потерять, что автор — не чужой Дону человек, что он там много жил, и еще живет, и, видно, не парубок был к 1930 году, видно, отлично знает казачий быт и язык, с его крутостью, уверенностью, подробностями, этого много в книге, этим неделанным языком с его несмягченной грубостью говорят в книге казаки. И типаж казаков у него есть, это не посторонний наезжий списывал, он многих реальных имеет в виду, когда пишет, успевает показать и второстепенных персонажей в броских чертах...
Перечень неумелостей, неловкостей, беспомощностей, смысловых и содержательных несообразностей и художественных провалов, однако, продолжается:
► Несклады внутри одной сцены: бригада Дубцова кончала в поле полдник, когда медленная телега появилась на дальнем степном горизонте, а когда телега доехала — то бригада еще не кончила каши. И сам Дубцов: негодует на приезжего — а лицо искренно радуется. В темной комнате свет лишь узкой полоской по полу, но подробно описывается выражение глаз. Лень пера.
И еще все это можно было бы перенести, если б не изнурительные удручающие, многодесятистраничные потуги автора на юмор: и откуда впало ему несчастно, что он юморист? Чуть только завяжется на три страницы серьезное повествование — сейчас же тискай сюда на пять страниц невместную псевдокомическую интермедию! — шутки, часто пошло эротичные, нестерпимо безвкусные, грубые (как разыгрывание стряпухи Куприяновны), — и все «давятся от смеха», покинув всякое иное дело. Но и их еще все можно было бы перенести, если бы не дед Щукарь со своим дежурным комикованием — в непомерных, неестественных количествах на целые главы, по 10 страниц, нарушая реальность всякой обстановки, динамику действия, и никогда нимало не смешно, — и все «трясутся от смеха» и слушают с «неослабным вниманием», а частейший слушатель его, председатель колхоза, то «давится от смеха», то «еле сдерживается от смеха», когда читателю уже впору выть от тоски. Такого отсутствия вкуса, чувства меры кажется еще никогда не являла русская литература.
И тут, когда этот убедительный и доказательный разгром романа, казалось, достигает уже высшей точки, он вдруг снова обрывает себя:
► Но опять же не так просто. А вот сцена семенного бунта (1-я часть) — ярка, удалась. А Нагульнов? «Человек нервного расстройства», с его припадками бешенства, — крупная удача, хороший памятник типу, кто его потом восстановил бы? Целен — и «чтоб до мировой революции коммунисты не имели баб», Лушку отпустил, а кружевной платочек хранит, и... «кулак у меня при случае на любую дискуссию гожий», «я агитирую так, как моя партизанская кровь подсказывает», избиение Банника, запер трех колхозников в пустой комнате, Лушку с теткой в чулане (и автор любуется его разбоем); никогда не боязнь чужих страданий, а только бы самому не потерять партбилет; «я попа, волосатого жеребца, при народе овечьими ножницами остригу» — и острижет; и способен подстеречь, убить без суда, — но и самому в бой идти.
Как совместить эти «крупные удачи» с таким отсутствием вкуса и чувства меры, какого «кажется еще никогда не являла русская литература», Солженицын не знает. Во всяком случае, прямого ответа на эту им самим заданную загадку не дает. Но в чем он убежден твердо, так это в том, что все отмеченные им удачи романа — уж точно не от Шолохова:
► Вот так, прочтя изнехотя «Поднятую целину» (читатель, может быть, заметил, что я ни разу отначала не употребил фамилию автора) — невольно опять возвращаешься мыслями к «Тихому Дону».
Если в «Тихом Доне» идеологические вставки были все же малочисленны, крайне бестолковы, неуместны и сразу резали глаз, то в «Поднятой целине» они уже составляют главную ткань, а художественные удачи, как пестрые латки, удивляют нас своей неожиданностью. Но тот непрошеный соавтор, чья рука могла лепить пропагандные заплаты на добротную ткань «Тихого Дона», — тот отчего не мог бы и выткать рядно «Поднятой целины»?
Тут — явное противоречие: ведь только что сам Солженицын в своем беглом анализе этого «рядна» показал нам, что художественные удачи удивляют нас не только «как пестрые латки», что само это «рядно» — не такое уж рядно, а сплошь и рядом являет собой весьма добротную ткань. И создатель этой добротной ткани — уж отнюдь не автор «Тихого Дона». Между ним и автором «Тихого Дона» — пропасть:
► Автор «Дона»: был сердечно предан Дону, страстно любил казачество и имел собственные мысли о судьбе края. Он ни в чем не проявил бесчестия, не выказывал безнравствия, а как художник был превосходно высок. Автор «Целины»: хотя и зная Дон, не проявляет любви к его жителям, а мысли содержит на уровне советского агитпропа. Народное бедствие он описывает бесчестно, лживо, глумливо, а как художник провально ниже уровнем.
Тут стоит напомнить хронологию. Первые три тома «Тихого Дона» появились в течение трех смежных лет: 1927—1929. По пятам был готов и 4-й, хотя пропущен в печать не сразу. В 1932-м был готов и 1-й том «Целины». Затем последовал, для номинального автора, перерыв в 27 лет (отрывки «Сражались за родину» трудно отнести к художественной литературе, а ложь «Судьбы человека» я разобрал в «Архипелаге»). В 1959-м появился 2-й том «Целины» — позорный по уровню даже в сравнении с 1-м. Затем наступило 25 лет уже полного молчания. (Пусть поправит меня любой писатель, а я чувствую так: если не занялся бабочками, палеонтологией или иностранными переводами, невозможно зрелому писателю промолчать 25 лет. Впрочем, Твардовский передавал мне сцену о вешенском аборигене, как тот сердечно признался почитателю, что не только ничего не пишет, но даже и не читает давно ничего.)