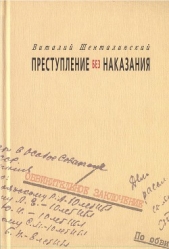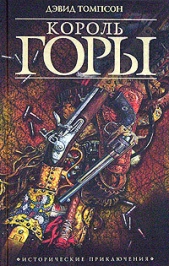Рабы свободы: Документальные повести

Рабы свободы: Документальные повести читать книгу онлайн
Книга посвящена судьбе Русского Слова, трагическим страницам нашей литературы. В ней рассказывается о писателях, погубленных или гонимых тоталитарной властью.
Повествование основано на новых документах и рукописях, которые автор обнаружил и исследовал, работая в архивах КГБ и Прокуратуры СССР как организатор и руководитель Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей России. Среди героев книги — Исаак Бабель, Михаил Булгаков, Павел Флоренский, Николай Клюев, Осип Мандельштам, Нина Гаген-Торн, Георгий Демидов, Борис Пильняк, Максим Горький.
"Рабы свободы" — результат многолетней работы автора над этой темой, которой посвящены и другие его книги: "Донос на Сократа" (М.: Формика-С, 2001) и "Преступление без наказания" (М.: Прогресс-Плеяда, 2007). Продолжение труда — новое, переработанное издание "Рабов свободы", дополненное и уточненное.
Издание иллюстрировано редкими архивными фотографиями и документами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Среди моей хандры и тоски по прошлому иногда, как сейчас, в этой нелепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате гнусного дома, у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верно, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю (2 сентября).
Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей <отражающимися> [59] в произведениях, трудно печататься и жить…
Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне» [60]. Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Нак<ануне>», никогда бы не увидали света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой (26 октября).
Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем (6 ноября).
Минул год. Булгаков уже размежевался с основным отрядом советских писателей — верных слуг партийной идеологии, ему тесно и душно в жестких тисках существующего режима, — и потому все неизбежней конфликт с этим режимом, все труднее пройти к читателю сквозь игольное ушко цензуры. Всякий его выход к людям встречает сопротивление и неизменно возвращает назад, к самому себе, к чистому листу, к своему одинокому слову, в котором — единственная опора и спасение.
Только что вернулся с вечера у Ангарского — редактора «Недр» [61]. Было одно, что теперь всюду: разговоры о цензуре, нападки на нее, разговоры о «писательской правде» и «лжи»… Я не удержался, чтобы несколько раз не встрять с речью о том, что в нынешнее время работать трудно, с нападками на цензуру и прочим, чего вообще говорить не следует.
Ляшко, пролетарский писатель, чувствующий ко мне непреодолимую антипатию (инстинкт), возражал мне с худо скрытым раздражением:
— Я не понимаю, о какой «правде» говорит т. Булгаков? Почему все нужно изображать?..
Когда же я говорил о том, что нынешняя эпоха — это эпоха сви<нства>, - он сказал с ненавистью:
— Чепуху вы говорите…
Не успел ничего ответить на эту семейную фразу, потому что вставали в этот момент из-за стола. От хамов нет спасения (26 декабря 1924).
…Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда, ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда невыпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература.
Боюсь, как бы не саданули за все эти подвиги «в места не столь отдаленные» (В ночь на 28 декабря).
Опасения не напрасны: Булгаков ясно различал среди литературной и окололитературной братии «серые фигуры» добровольных и платных агентов. И говорил об этом открытым текстом. Одна из таких «фигур» донесет на Лубянку позднее (10 ноября 1928-го): «О „Никит<инских> субб<отниках>“ Булгаков высказал уверенность, что они — агентура ГПУ». Известен теперь и факт беседы о Булгакове, которую вела с начальником Пятого отделения Секретного отдела ОГПУ Гельфером хозяйка салона — Евдоксия Никитина…
Больной нотой по всему дневнику Булгакова проходит его житейская неустроенность, безденежье. И эти заботы и тяготы он обыгрывает, превращает в художественные формулы: «Пока у меня нет квартиры — я не человек, а лишь полчеловека» (18 сентября 1923), «Второй вопрос — как летнее пальто жены превратить в шубу?» (19 октября 1923).
Все это еще не гасит его врожденного жизнелюбия, не делает его мизантропом. Да, зимнего пальто у жены нет, да, могут запросто «садануть в места не столь отдаленные», но:
«Очень помогает мне от этих мыслей моя жена. Я обратил внимание, когда она ходит, она покачивается. Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в нее влюблен. Одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно или это избирательно, для меня?» (В ночь на 28 декабря 1924).
И через несколько дней опять тот же мотив:
«Ужасное состояние: все больше влюбляюсь в свою жену. Так обидно — 10 лет открещивался от своего… Бабы как бабы. А теперь унижаюсь даже до легкой ревности. Чем-то мила и сладка. И толстая.
Газет не читал сегодня».
Такие записи сотрудники ОГПУ, к которым попал дневник, проглядывали, вероятно, бегло, по диагонали. Интеллигентская лирика и самокопание! Это для нас автор дневника — Булгаков! Для них — писака, не без гордыни, нашкодивший литератор подозрительного свойства, которого следует проучить. Ничего булгаковского, кроме этих рукописей, они скорее всего и не читали. И искали в них совсем другое. Каково его политическое лицо? С кем он, по какую сторону баррикад? Наш или контра?
И такую информацию Булгаков давал им в избытке. Ибо о политике думал много, почти каждый день. Думал — и доверял дневнику.
…О политике, все о той же гнусной и неестественной политике… В Болгарии идет междоусобица. Идут бои с коммунистами. Врангелевцы участвуют, защищая правительство. Для меня нет никаких сомнений в том, что эти второстепенные славянские государства, столь же дикие, как и Россия, представляют великолепную почву для коммунизма. Наши газеты всячески раздувают события, хотя, кто знает, может быть, действительно мир раскалывается на две части — коммунизм и фашизм.
Что будет — никому не известно (30 сентября 1923).
Впрочем, не так уж не известно. В другой записи того же года Булгаков, задолго до Второй мировой войны, прозревает ход событий: «Возможно, что мир действительно накануне генеральной схватки между коммунизмом и фашизмом».
А вот целый каскад записей о партийных вождях. Сначала о Троцком:
«Сегодня в газетах бюллетень о состоянии здоровья Л. Д. Троцкого. Начинается словами: „Л. Д. Троцкий 5-го ноября прошлого года болел…“, кончается: „Отпуск с полным освобождением от всяких обязанностей на срок не менее 2-х месяцев“. Комментарии к этому историческому бюллетеню излишни.
Итак, 8 января 1924 г. Троцкого выставили. Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть он ей поможет!»
Следующая запись в дневнике, 22 января, — уже о Ленине:
«Сейчас только что (пять с половиной часов вечера) Семка сообщил, что Ленин скончался…»
Никаких эмоций, комментариев, слез и клятв, приличествующих советскому человеку, просто констатация факта: «Семка сообщил…»
И в том же году — о Калинине, уже с явной иронией:
«Вчера получилось известие, что в экипаж Калинина (он был в провинции где-то) ударила молния. Кучер убит. Калинин совершенно невредим».
Итак, Троцкого выставили, Ленин скончался, Калинин — невредим! Ну кто может так говорить о советских вождях? Контра!
Вообще, при всей глубокой серьезности Булгакова, юмор из-под его пера брызжет фонтаном, жизнь ему поставляет материал в изобилии, ежедневные происшествия выстраиваются в готовые сценки, фельетоны — только печатай! Хотя, пожалуй, это как раз и не для печати, поскольку здесь, в дневнике, нет цензуры, он здесь до конца откровенен, может называть вещи своими именами. Есть где разгуляться перу и… ОГПУ! Для них тут — сплошь «жареные факты»! Вот вы, оказывается, какой, Михаил Афанасьевич!