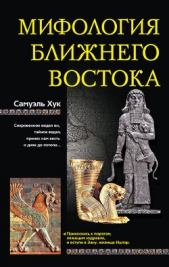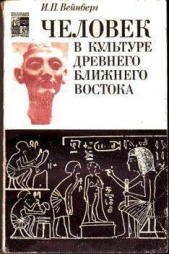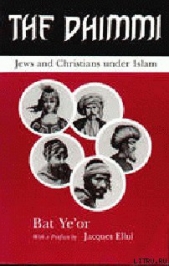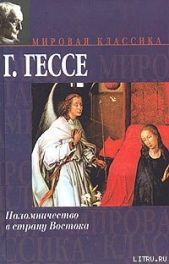Ориентализм. Западные концепции Востока

Ориентализм. Западные концепции Востока читать книгу онлайн
Работа посвящена истории познания и освоения европейцами культуры арабского Востока, насчитывающей немало ярких страниц - от первых контактов с диковинами и богатством Востока, до формирования систематической научной традиции изучения культур Востока, которая подкрепляется мощной политической и экономической практикой колониального освоения Востока со стороны ведущих европейских империй. Эту традицию Саид и называл ориентализмом, имея в виду при этом не просто наименование академической дисциплины, но и особый подход к предмету изучения, воплощенный в позиции одной цивилизации (европейской) по отношению к другой (арабско-исламской). Автор представляет ориентализм как сложную и многоуровневую систему репрезентаций Востока со стороны Запада, которая включает в себя помимо академического компонента - исследования и комментирования классических текстов - определенное представление о сути "восточного человека", воплощенное в практике имперской колониальной экспансии и реализующееся в политических и экономических структурах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Maometto» — Мохаммед — появляется в песне 28 «Ада». Он помещен в восьмой из десяти кругов ада, в девятую из десяти Злых Щелей, в круг мрачных рвов, окружающих в аду крепость Сатаны. Таким образом, прежде чем Данте доходит до Мохаммеда, он проходит через круги, где содержатся менее тяжкие грешники: сладострастники, алчные, чревоугодники, еретики, гневливые, самоубийцы, богохульники и нечестивцы. После Мохаммеда на пути к самому дну ада, где обитает Сатана, — только поддельщики и предатели (Иуда, Брут и Кассий). Таким образом, он относит Мохаммеда к суровой иерархии пороков, к категории, которая у Данте названа «seminator di scandalo e di scisma».{60} Кара Мохаммеда, конечно же, тоже вечная, носит особый характер: его тело рассечено от подбородка до ануса, как пишет Данте, подобно ушату без дна. В стихах Данте не упущено ни одной эсхатологической детали, так живо обрисовано наказание: кишки Мохаммеда и экскременты выписываются с поразительным тщанием.{61} Мохаммед разъясняет Данте свое наказание, указывая при этом на идущего перед ним в ряду грешников Али, которого дьявол рассек надвое.{62} Он также просит Данте предупредить Фра Дольчино, священника отступника, чья секта проповедует общность жен и богов и кого обвиняли в прелюбодеянии, что того ожидает.{63} От читателя не ускользнуло, что Данте проводит параллель между бунтующей чувственностью Дольчино и Мохаммеда, а также между их претензиями на исключительное положение в теологии.
Однако это еще не все, что Данте хочет поведать нам об исламе. Еще ранее в «Аду» мы встречаемся с небольшой группой мусульман. Авиценна, Аверроэс и Саладин находятся среди добродетельных язычников, которые, вместе с Гектором, Энеем, Авраамом, Сократом, Платоном и Аристотелем осуждены на пребывание в первом круге ада,{64} где им назначено минимальное (и даже почетное) наказание за то, что они не оценили благость христианского откровения. Конечно же, Данте восхищается их великими достоинствами и свершениями, но, коль скоро они не христиане, вынужден их осудить, хоть и не слишком сурово, на пребывание в аду. Вечность — великий уравнитель различий, это так, однако нарочитый анахронизм и аномальность того, что дохристианские светочи помещены в ту же категорию «проклятых язычников», что и послехристианские мусульмане, совершенно не беспокоит Данте. Даже несмотря на то, что Коран объявляет Иисуса пророком, Данте предпочитает считать, что великие мусульманские философы и султан полностью невежественны относительно христианства. Они могут в какой-нибудь а-исторической версии даже оказаться вместе с героями и мудрецами классической древности, как, например, на фреске Рафаэля «Афинская школа», где Аверроэс сидит на полу Академии вместе с Сократом и Платоном{65} (или в «Диалогах мертвых» (1700–1718) Фенелона, где разворачивается дискуссия между Сократом и Конфуцием).
Эти дискриминации и тонкости поэтического изображения ислама у Данте служат примером схематической, почти космологической неизбежности, с какой ислам и его представители оказываются порождением географического, исторического и, помимо всего, морального восприятия Запада. На эмпирические данные о Востоке или какой либо его части мало обращают внимание, прежде всего значение имеет то, что я называю ориенталистским видением — видением, которое не ограничивается сферой профессиональной учености, но, скорее, является общим достоянием всех, кто размышляет о Востоке на Западе. Поэтическое дарование Данте усиливает это видение Востока, делает его еще более репрезентативными. Мохаммеда, Саладина, Аверроэса и Авиценну включили в состав воображаемой космологии — их выстроили по порядку, расклассифицировали, втиснули в жесткие рамки и закрепостили, не обращая особого внимания ни на что, кроме их «функции» и той модели, которую они на этой сцене воплощают. Исайя Берлин следующим образом описал эффект подобного подхода.
В [такой] … космологии мир людей (и в некоторых версиях вся Вселенная) представляют собой единую, всеобъемлющую иерархию, так что объяснить, почему каждый фрагмент таков, каков он есть, а также находится там и тогда, где и когда он есть, и делает то, что делает, — означает eo ipso{66} сказать, в чем состоит их цель, сколь успешно они ее выполняют, и каковы отношения координации и субординации между целями различных сущностей в гармоничной пирамиде, которую они в совокупности образуют. Если такая картина реальности верна, то историческое объяснение, как и всякое другое, должно состоять, помимо прочего, в атрибуции индивидов, групп, наций, видов, — каждого к своему надлежащему месту в модели Вселенной. Знать «космическое» место той или иной вещи или личности — это то же самое, что сказать, что она есть или что она делает, ивтожевремя почему она должна быть там и делать то, что она делает. Отсюда быть и иметь ценность, существовать и иметь функцию (и выполнять ее более или менее успешно) — это одно и то же. Модель, и лишь она одна, приводит к появлению и является причиной смерти, дарует цель, т. е. ценность и смысл, всему сущему. Понимать — значит воспринимать модели… Чем более неизбежным можно представить событие, действие, характер, тем лучше их можно понять, тем глубже озарение исследователя и тем ближе мы стоим к конечной истине.
Такой подход является глубоко антиэмпирическим.[67]
То же самое относится и к ориенталистскому подходу в целом. Как и магия или мифология, он обладает характером само ограничивающей, само подкрепляющей систе мы, в которой вещи таковы, каковы они есть, потому что они именно таковы, однажды, на все времена, по онтологическим соображениям, которые никакому эмпирическому материалу никогда не удастся ни поколебать, ни изменить. Европеец встречается с Востоком, и в особенности с исламом, во всеоружии такой системы репрезентации Востока и, как предположил Анри Пирен (Henri Pirenne), ислам становится для него олицетворением чужака, против которого и была направлена вся европейская цивилизация в целом еще с эпохи Средневековья. Упадок Римской империи в результате нашествия варваров имел парадоксальный эффект включения варварских областей в римскую или среднеземноморскую культуру, Романию (Romania),{67} тогда как продолжающееся с VII века исламское вторжение, как отмечает Пирен, привело к смещению центра европейской культуры к северу из района Средиземного моря, ставшего теперь арабской территорией. «На сцену истории вышел германизм. Тем самым римская традиция была прервана. Теперь же грядет новая, самобытная романо-германская цивилизация». Европа была заперта в себе самой: Восток, если это не просто торговый регион, был культурно, интеллектуально и духовно чужд Европе и европейской цивилизации, которая, по словам Пирена, стала «одним великим христианским сообществом, объединенным общей ecclesia{68} … Отныне Запад зажил своей собственной жизнью».[68] В поэме Данте, в работах Петра Достопочтенного (Peter the Venerable){69} и других ориенталистов из Клюни, в полемике с исламом христианских авторов от Гиберта Ногентского (Guibert of Nogent){70} до Беды Достопочтенного,{71} от Роджера Бэкона, Вильяма Триполийского, Бурхарда Сионского (Burchard of Mount Syon) и Лютера, в «Поэме о Сиде», в «Песни о Роланде», в трагедии Шекспира «Отелло» (то, что про «чернокнижника и колдуна, / Который промышляет запрещенным»{72}), — Восток и ислам неизменно репрезентированы как олицетворение чужака, играющего особую роль внутри Европы.
Имагинативная география — от ярких портретов из «Ада» и до прозаических описаний в «Восточной библиотеке» д'Эрбело — легитимизирует вокабуляр, универсум репрезентативного дискурса, свойственного восприятию и пониманию ислама и Востока. То, что в рамках этого дискурса считается фактом, например то, что Мохаммед — обманщик, на деле является компонентом дискурса, позицией, которую этот дискурс заставляет нас принимать, как только встречается имя Мохаммеда. В основе всех этих составляющих ориенталистского дискурса (под которым я понимаю всего лишь вокабуляр, используемый тогда, когда речь идет о Востоке) — лежит ряд фигур репрезентации, или тропов. Эти фигуры относятся к действительному Востоку — или исламу, который является главным предметом моего исследования, — так же, как стилизованные костюмы к персонажам пьесы. Они подобны кресту, который, например, несет на себе Всякий (Everyman),{73} или пестрому костюму Арлекина в комедии дель арте. Другими словами, нам не приходится обращать внимание на соответствие между языком, используемым для изображения Востока, и самим Востоком, и не столько потому, что язык неточен, но также и потому, что он даже не пытается быть точным. Как и Данте в своем «Аду, этот язык одновременно пытается и охарактеризовать Восток как чуждый, и схематически вывести его на театральную сцену, чья аудитория, импресарио и актеры рассчитаны на Европу, и только на Европу. Отсюда колебания между знакомым и чужым. Мохаммед — всегда обманщик (он знаком нам именно потому, что пытается быть похожим на Иисуса, каким мы его знаем) и всегда — восточный человек (т. е. чужой, потому что, хотя в каком-то отношении он и похож на Иисуса, все же не такой, как Иисус).