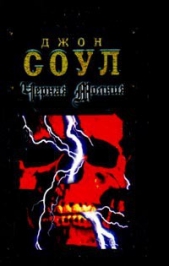Черная молния вечности (сборник)
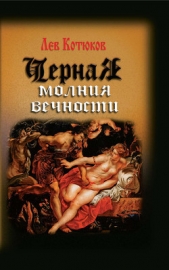
Черная молния вечности (сборник) читать книгу онлайн
Автор книги «Черная молния вечности», поэт и прозаик Лев Котюков, ныне один из самых известных мастеров отчего слова. Его многогранное творчество получило заслуженное признание в России, в ближнем и дальнем зарубежье, он – лауреат самых престижных международных и всероссийских литературных премий. Повествования «Демоны и бесы Николая Рубцова» и «Сны последних времен», составившие основной корпус книги, – уникальные произведения, не имеющие аналогов в русской словесности. Книга «Черная молния вечности» не рассчитана на массового читателя, эта книга – для избранных. Но для тех, кто прочитает ее до конца, она без преувеличений станет истинным открытием.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А дело было совершенно пустячным, совершенно безобидным. Мы проводили поэтический вечер поколений, на который приглашались лучшие выпускники Литинститута.
Дня за три до вечера Александр Алексеевич пригласил меня в свой кабинет и предложил пересмотреть список выступающих, который мы загодя представили в ректорат.
– А что там пересматривать? Нормально все, – недоуменно пожал я плечами.
Александр Алексеевич посуровел и ткнул пальцем в список:
– Вот! Рубцов! Совершенно необязательно!
– Что необязательно, Александр Алексеевич?
– Ну… Выступать ему необязательно… Напьется и оскандалится! Вполне можно обойтись без него…
– Но он же наш лучший поэт! И не собирается напиваться.
– Ну, прям уж лучший! – сердито возразил Михайлов.
Но я стойко отказался вычеркивать Рубцова из списка.
– Учтите, сами будете отвечать! Я категорически против, – сухо отрезал проректор и не подал руки на прощание.
Слава Богу, вечер прошел прекрасно. И Рубцов не подкачал, выступил на ура – и даже после вечера не оскандалился.
Я не сужу почтеннейшего Александра Алексеевича, вспоминая сие, ибо кто знает, как бы я повел себя, окажись в треклятом, продуваемом всеми идеологическими сквозняками проректорском кресле. Может быть, довел бы дело до конца и не допустил бы Рубцова к микрофону.
Оно, конечно, неэкономно в сочинении о Рубцове, безбожно греша краткостью изложения, уделять место второстепенным эпизодам русской литературы. Михайлову и в голову не пришло бы отстранять от выступления Евтушенко или вышеупомянутого Вознесенского. Еще бы – властители дум!..
Думается, данный случай очень характерен для нашей эпохи.
Так называемые шестидесятники – пена на мертвой зыби советской словесности, блескучая грязь подорожная, – были воистину властителями дум «культурного» общества, формировали общественное мнение, да и эту треклятую общественность. Мощные силы стояли за этим лжеромантическим явлением.
За Николаем Рубцовым ничего не стояло, кроме великого таланта. Он был вне общественного «света», вне интеллектуальной «элиты» тех лет. Истинная литература творилась на отшибе советской жизни, как бы на том свете, – и оставалась да и по сию пору остается непостижимой и чужой для нашей безнациональной общественности. И вообще: что это за словечко такое – общественность? А?! Ну, общество – это еще куда ни шло, сообщество – тоже вполне годится. А общественность?! Что-то ублюдочное есть в этом… «Шесть! Шесть! Шесть!..», как бы – чего изволите?!В общем: шестьсот шестьдесят шесть!..
И вспоминаются мне детские годы. Томлюсь поздним осенним вечером в ожидании отца. Зудит над головой черная тарелка. Ревут серебряные МИГи в тяжелом промозглом небе.
Наконец, смолкает рев, а отца все нет и нет. А черный лопух над головой зудит и зудит: «Мировая общественность. Мировая общественность… Осуждает, разоблачает… Клеймит… Одобряет… Широкие слои общественности…» и т. д. и т. п. до полного отупения чувств и разума.
Но – о, счастье! – гремит крыльцо под сапогами, грохает дверь, входит в комнату отец – и сходу вырывает шнур из радиорозетки.
Захлебывается тишиной неутомимое черное горло-ухо, – и лицо отца светлеет. И чудится на миг, что на всей земле тишина небесная.
– Па, а что такое – мировая общественность? – спрашиваю я.
– Общественность?! – озадачивается отец. Сбивает фуражку на затылок, пьет прямо из горлышка заварного чайника, утирает испарину со лба и недоуменно повторяет:
– Общественность?!.. Ну, как бы тебе это объяснить?! Это народ такой! Вернее, не народ, а… Ну, те, кто чужим умом живет!.. Да черт знает кто!!!..
– А вот по радио говорили, что не черт знает кто… – не удовлетворяюсь я ответом.– Да мало ли что там говорили! – сердится отец, но спохватывается, гладит меня по голове и примирительно заключает: – Подрастешь, разберешься… И с мировой, и не мировой общественностью… Давай-ка умываться… – заговорщицки подмигивает и достает из кармана реглана плитку шоколада «Золотой ярлык».
Эх, как ценим мы время, как им дорожим!
И кажется нам, что жизнью дорожим.
Но все не так, совсем не так!.. Говорил – и в сотый раз с горечью повторю: жизнь и время не нужны друг другу. И может, противопоказаны и взаимоуничтожимы. И большая часть нашего бытия – самоуничтожение, а не жизнь.
И никому не дано пережить свое время, но самого себя – сколько угодно.
И множится скорость света на скорость тьмы. И обретает тьма скорость сверхсветовую. Но все летит и летит вне пространства и времени последний белый самолет моего отца.
Боже мой, как прав был отец, так просто и глубоко объяснивший мне шипящее слово – общественность! Вот эта чертова общественность и делала при жизни из Рубцова этакое литературное недоразумение, этакого неудобного и безнадежного во всех отношениях человека, который должен!!! обязан быть обреченным:
– …Да он иной участи и не заслужил! Сам во всем виноват! Не хотел быть нормальным человеком… И баба эта, что его по-пьянке придушила, – не виновата! Он кого хочешь мог довести до белого каления… Садист детдомовский!
Подобные помойные словоизвержения, увы, не утихают с годами, а подпитываемые мертвой водой смутного времени безнаказно громовеют и стервенеют.
В чем причина столь неумной посмертной неприязни к поэту? Ну ладно, коль это проповедовали бы люди, по духу и крови чуждые Рубцову. Ан нет!.. Живут и множат эту ненависть в основном так называемые «свои». Очужебесившиеся «свои».
Бесам неведомо чувство крови, они – вне жизни. Но они – во времени! Время – их безраздельная вотчина. И, может быть, оттого столь ненасытна их злоба, что поэзия Рубцова в единоборстве времени и жизни не дала самоуничтожиться частице нашего бытия. Такое демоны и бесы не прощают никому и никогда. И смерть в данном случае не имеет никакого значения.
Трижды был прав мой отец, воскликнув:
«Общественность?! Да черт знает кто!!!..»
Князь мира сего хорошо знает свое дело и не ведает заблуждений, в отличие от пустоцельной, блудливо-брехливой мировой и отечественной общественности.
Общественные люди не будут беспокоиться: есть ли у человека на зиму пальто, есть ли у него ночлег, есть ли деньги на дорогу. Но громогласно будут жалеть, сокрушаться, охать, сознательно и бессознательно, радуясь, что есть предмет дежурной жалости и показного сокрушения. И как-то удивительно ловко устраняться от практического дела, оставаясь в несведущих глазах благодетелями и доброжелателями, а после смерти человека – душеприказчиками. В жизни, в необщественной жизни всё было иначе.
Как-то уезжал Рубцов в Вологду. Уже растеплилось, и можно было спокойно странствовать налегке. Но ехал поэт в бездомье и не ведал как быть со скудными пожитками, где оставить свое потертое видавшее виды пальто, дабы к новым холодам быть во всеоружии.
Провожали его, как всегда, шумно и организованно. Но наиболее организованным из провожающих был поэт Игорь Ляпин.
Рубцов тихо отозвал его, достал металлический рубль и попросил:
– Вот тебе, Игорь, деньги, если нетрудно – вышли мне к осени пальто в Вологду на адрес отделения Союза писателей. А то затеряется где-нибудь – и буду зимой хуже последнего воробья.Ну как тут не вспомнить замечательные стихи Рубцова, без которых немыслима школьная хрестоматия русской поэзии:
Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зернышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему…
В заключительных строчках с грустной, но уважительной улыбкой поэт говорит о самом себе.
Но отчего столь вредны и злопамятны бывают люди, не знавшие ни сиротства, ни голода, ни нужды?!
Отчего этим благополучникам ненавистна тяжелая судьба других, отчего их невыносимо раздражает чужое страдание?
Тяжкий напрашивается ответ, более тяжкий, чем кому-то подумалось. Но для полной ясности обойдемся без ответа, как любил иногда говаривать Рубцов: