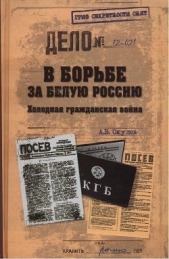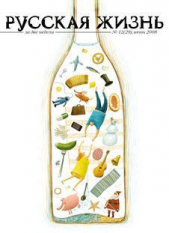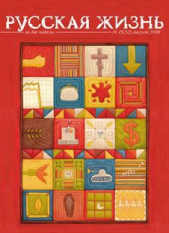Русская жизнь. Гражданская война (октябрь 2008)

Русская жизнь. Гражданская война (октябрь 2008) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Советская армия была задумана как чисто солдатская. Это был идеал, к которому стремились большевики: обезофицеренная, лишенная амбиций и желаний масса затравленных людей, боящихся комиссаров. Советский офицер - это всего лишь старший солдат, но не воин. Правда, такая армия плохо воюет. Так что и в Гражданскую, и в Отечественную приходилось давать волю воинскому духу - а потом его истреблять на корню. Но это уже другая история.
Итоги - невеселые. Классический советский военный - это человек, прежде всего, послушный. Он будет исполнять любые приказы и терпеть любые унижения, если они исходят от начальства. Он будет стрелять не то что по Белому дому, а по собственному - если ему прикажут. Если ему станет тошно, он запьет или застрелится. Но никогда, ни при каких обстоятельствах он не сможет организовать сколько-нибудь внятный бунт.
Возможно, сейчас это уже не так: «горячие точки» кого-то чему-то научили, хотя и не так, чтобы очень. Но тогда оно полностью соответствовало действительности.
Тогда, у Белого дома, я слышал легенды о поездах, набитых сослуживцами Руцкого, которые-де только и ждали часа, чтобы выступить. Ну, может, кто и приехал - один, без оружия, как частное лицо. Сражаться на стороне народа было некому.
Кстати, о народе.
***
Советский патриотизм - словосочетание странное и несколько оксюморонное.
Большевики начинали с того, что «у пролетариев нет отечества». То, чем они закончили - «славься, Отечество наше свободное» - не зачеркивало первый тезис, а оттеняло его. Советское Отечество было все-таки условным, ненастоящим. Оно и называлось совершенно абстрактно - СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Какой-то французский философ по этому поводу язвил, что государство с таким названием можно было учредить где угодно, хоть в Африке. Он был бы прав, если бы не слово «советский» - единственное, имеющее в себе что-то национально-окрашенное. Soviet не переводилось, как sputnik и babushka.
Другое дело, что назвать страну по имени одного, хотя и крайне важного политического института - это надо было постараться. Более того, оно же вошло в название народа - СССР населял именно «советский народ». Если понимать буквально - народ, имеющий происхождение от выборных органов власти, причем как раз выборность их была не просто фиктивной, а демонстративно-символической: совнардеповские депутаты фактически назначались партийным руководством. Все это, если разобраться, очень странно, но все привыкли.
СССР создавался как революционное государство, база мировой революции. Неудивительно, что - по всем правилам материалистической диалектики - к своему концу он пришел крайне консервативным обществом, не поспевающим за «большим настоящим миром» и сбившим ноги в попытках успеть и догнать - ну или хотя бы не оторваться слишком уж позорным образом, не отстать. Само слово, которым советская власть клеймила убитую Российскую империю - впрочем, «отсталость», как некая сущностная характеристика, была приписана всему русскому вообще, - вернулось к ней же вечным кошмаром: «догнать» никак не получалось, разрыв увеличивался, и приходилось изо всех сил маскировать его, засыпать словами. Слова проваливались в разверзающуюся пропасть, откуда они дурно пахли. Уже в середине семидесятых и в восьмидесятые годы к «самому передовому учению современности» в народе относились как к привычной, хотя и стыдной обузе - надо терпеть, раз уж это наше, но именно что терпеть. Так терпят старого, выжившего из ума родственника, какого-нибудь дедулю по мамке. Терпят, потому что «когда-то дедуля ого-го был, нас всех поднял», а что теперь он шамкает гадкие глупости и регулярно обделывает порты - так это ничаво, как-нибудь… Собственно, таким дедом - не метафорически, а буквально - был дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев. К которому ровно так и относились. Но и последующие руководители, помоложе, все равно воспринимались в том же ключе: «глупости все это».
При этом существовала и поддерживалась низовая, народная советская идея. Которая была, в сущности, противоположной официозу - но только за ее счет официоз жил.
И идея эта была крайне консервативной. По сути, она представляла собой апофеоз консерватизма как такового.
Если кто- нибудь помнит разговоры за жизнь, какие вели простые люди в те неторопливые времена, то довольно часто беседа упиралась в сравнения типа «у нас» и «у них». Под «ними» понимался не только Запад, но и «остальной мир вообще». Сравнения -особенно если люди подбирались не только простые, но и сколько-нибудь осведомленные - сначала всегда шли не в нашу пользу. Все прекрасно знали, что там, в большом настоящем мире, люди работают в небоскребах, ездят на блестящих автомобилях, употребляют сто сортов колбасы и двести - разливного пива, получают хорошие зарплаты, не обязаны служить в армии, а если служат, то за деньги, что там студентов не посылают на картошку, а женщины ведают другие способы регулирования рождаемости, кроме периодических абортов. Это все оживленно обсуждалось. Но в беседе всегда наступал такой момент, когда самый старший или самый опытный наклонял голову и говорил - «ну да… ну да… зато у нас еще осталось это самое…» И крутил в воздухе пальцами, изображая это самое, которое у нас еще есть, а у них уже нет.
При попытке узнать подробнее, что же такое у нас осталось, говорилось разное. Начиная с густого мычания - «ну, вот это, что мы такие вот… простые люди, с земли, у нас связь какая-то человеческая между людьми, добрые, а не как волки» - и кончая довольно изощренными построениями. Например, помню одного колхозника, который объяснял мне, мальцу, что там, на Западе, «вся земля частная, пойти никуда нельзя, даже земляники не пособираешь, везде колючая проволока и собаки, частное владение». «А у нас хоть в лес можно сходить» - блаженно добавлял он, осматривая дыры в корзине: собирался с утречка насчет опят. Апокалиптическая картина с собаками и колючей проволокой и в самом деле выглядела непривлекательно. Потом я нашел ровно то же самое рассуждение в каком-то позднем советском романе, печатавшемся, кажется, в «Нашем современнике», уже приобретающем соответствующую репутацию - там американский шпион, посланный растлевать советский народ при помощи «Библии и порнографий» (да, так было в тексте), удивлялся, что советские люди «сообща владеют природой». Но это уже была какая-никакая рефлексия, а мы сейчас про народное.
Так вот. Народный советизм весь стоял на формуле «зато у нас еще осталось».
Что именно осталось - об этом можно было судить-рядить, «отношения добрые» или «землянику пособирать». Формула была одна - у нас пока еще есть то, что во всем остальном мире уже кончилось. Что - неважно; мы должны держаться этого, потому что в этом наш единственный шанс. Ибо это что-то - невосполнимый ресурс: у них его уже почти нет, а у нас он остался, и когда у них там все накроется - потому что не хватит вот этого самого - мы-то как-нибудь выживем. Кстати, очень часто под «этим самым» понималось именно умение выживать: они там без сортирной бумаги и кока-колы через неделю передохнут, если что, а мы на хлебушке да молочке пересидим, такие уж мы люди. Иногда же это самое нечто назывались словом «духовность».
Изводом той же самой идеи было - «чужого нам не надо, но за свое будем держаться до последнего». Это, кстати, была точка соприкосновения низших слоев с официозом - «чужой земли не надо нам и пяди, но своего вершка не отдадим». Из чего немедленно следовала доктрина глухой обороны: пересидеть, переждать, пока враг сам не загнется, биясь головой о наши неприступные ворота. Куда-то лезть - это переживалось как нехорошее, недолжное действие. Помню, каким извиняющимся тоном говорилось по радио и телевизору про тот же Афган, как подчеркивались слова «ограниченный контингент», «по неоднократным просьбам руководства Афганистана».
Хочется подчеркнуть, что в этом «у нас осталось» не было никакого чувства избранности. У всех оно когда-то было, просто все это потеряли, а у нас еще немного есть. Это, конечно, повод для гордости - но гордости тихой и смиренной: ведь это не мы нашли то, чего нет у других, а другие, слишком рванув вперед, потеряли то, что имели. С другой стороны, это же способствовало снисходительному отношению к чужакам: ведь они, растяпы, лишились чего-то главного, хотя и непонятно чего.