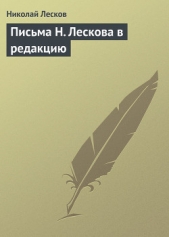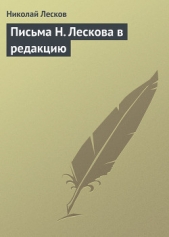Лесковское ожерелье

Лесковское ожерелье читать книгу онлайн
Первое издание книги раскрывало судьбу раннего романа Н. С. Лескова, вызвавшего бурю в современной ему критике, и его прославленных произведений: «Левша» и «Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел» и «Тупейный художник».
Первое издание было хорошо принято и читателями, и критикой. Второе издание дополнено двумя новыми главами о судьбе «Соборян» и «Железной воли». Прежние главы обогащены новыми разысканиями, сведениями о последних событиях в жизни лесковских текстов.
Автор раскрывает сложную судьбу самобытных произведений Лескова. Глубина и неожиданность прочтения текстов, их интерпретации в живописи, театре, кино, острый, динамичный стиль привлекут к этой книге и специалистов, и широкие круги читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я пошел смотреть. Вот впечатления очевидца.
Занавес в жостовском стиле: красные тучные розы по черному фону. Огромные, преувеличенные кружева. Тяжелая дубовость купеческого дома — лестницы, галереи. Ощущение замкнутости, спертости; коричнево-сизый сумрак; только алая рубашка Сергея мелькает в сумраке, да алый атлас одеяла — цвет крови… Я подумал: а ведь есть что-то лесковское в этой атмосфере внутренней сдавленности… Не в жостовском узоре, не в лесковских словечках, обыгрываемых в «хоровых запевах», — это все реминисценции из «Левши», воспринятого «по Кустодиеву», нет, главное — давление воздуха. Огромное внутреннее давление — черта лесковской прозы: некуда податься… не хватает дыхания. И в портретах его, во внешности писателя — что-то такое же: нигде с открытой улыбкой, нигде с распахнутым воротом — всегда замкнут, тяжек взглядом, короткая шея словно удушена воротником — тяжко… Вот это ощущение подспудной тяжкой сдавленности поразило меня в первом действии у Гончарова. Два убийства прошли на глазах — словно сама тьма давила и убивала людей — кто там ударил, кто задушил, не очень видать; мечутся тела, мелькает алое во тьме.
На третьем убийстве стало ясно: не Катерина убивает, а Сергей. Она — удержать хочет. Она кается.
Переломился спектакль к жалости — пошел «по Островскому». А в острожных сценах, когда в серой дымке затянули кандальную — уже и не Катерина из «Грозы» подменила Катерину Львовну, а третья Катерина русской классики — Катюша Маслова; и покатилось все уже по «Воскресению» Толстого. Упустив последнюю связь с Лесковым, потерял спектакль для меня большую часть интереса, хотя я не мог не отдать должное той искренности, с какой на сцене разрывала себе душу «ради любви» Наталья Гундарева… Увы, думал я, не может выдержать русский человек мысли о преступной женской душе — этого уж мы никак не отдадим: жизнь положим, все вокруг вытопчем — только бы эту последнюю духовную твердыню нашу — светлую, любящую, «невиноватую» и неоцененную женскую душу — спасти. И приготовился я с пониманием принять эту традиционную, от Дикого, от Шостаковича, от Добролюбова идущую, милую нашему сердцу версию — как вдруг темные силы приобрели на сцене какой-то новый оттенок. Не скрою, я даже оживился, когда выпорхнула на свет божий Сонетка — но не лесковская, не та, что в русском остроге делит горькую чашу со всеми и, как может, защищается, — на сцене оказалась какая-то офранцуженная Сонетка, желто-табачная, кафешантанная, «тулузлотрековская». И они с Сергеем, и со всеми каторжанами, начали отплясывать вокруг Катерины Львовны то ли канкан, то ли тустеп, не понял, а понял только, что налетели, стало быть, на доверчивого русского человека растленные вестернизированные бесы-стиляги и сейчас доведут его до края. И точно: вихляясь и дразнясь, побежала по лестничке вверх кафешантанная Сонетка, бросилась за ней Катерина Львовна и столкнула вниз — в пропасть. Сейчас и сама бросится…
Однако прежде, чем броситься, Катерина Львовна, стоя под прожекторами на верхней точке грандиозной декорации, повернулась к залу и, как бы удостоверяя в глазах публики смысл происходящего, — неспешно, широко, размашисто перекрестилась…
О, как бушевал зрительный зал, вызывая и вызывая Наталью Гундареву! И все больше женщины — заплаканные, гордые… Какой славный подарок, думал я, получили они сегодня на жостовском подносе, какая это им душевная поддержка.
Не о Лескове думал — о том, как с помощью Лескова мы укрепляем свой дух.
Года три спустя Наталья Гундарева созналась, что она в отчаянии от этих аплодисментов.
Корреспондент, задававший вопросы, осторожно напомнил:
— Но у зрителей праздник…
— У зрителей праздник, а у меня за три дня настроение испорчено, как представляю себе, что мне предстоит в «Леди Макбет Мценского уезда»… Я становлюсь невыносима. Тяжелый спектакль… Ощущение, что всю тебя внутри выскоблили, оболочка существует, а самой нет. Клянусь! Где же здесь для меня праздник?
Прочел я это и подумал: нет, мы не безнадежны. Если умная артистка умеет так почувствовать и так высказаться в совершенно безвыходном положении — в кольце какого-то коллективного самогипноза! Режиссер-то ведь заодно со зрителями, это он устраивает им праздник.
Из интервью Андрея Гончарова, почти одновременного:
— Катерина Измайлова… Не случайно ее ассоциировали с Катериной из «Грозы»… (Да ведь весь ужас в том, что ассоциировали! — Л. А.) Ее способность любить, ее вера, одержимость, искореженные условиями купеческого быта… для сегодняшнего зала — импульс к состраданию… На алтарь Катерина Измайлова ради любви (так. — Л. А.) приносит в жертву все — вплоть до собственной жизни…
Помилуйте, да она чужие жизни в жертву приносит. Тем людям вы что ж не сострадаете? Но как тут объяснишь: у нас всегда «условия» виноваты, это «условия» нас корежат, нам бы только «условия» преодолеть… И что ж тогда?.. Я все ждал, скажет ли А. Гончаров эти слова… Сказал: положительная героиня перед нами, с «обостренным чувством жизни»…
Да, из такой осады даже и Гундаревой не вырваться. Сказано: ни крестом, ни пестом нас не пробьешь… Натура.
Взгляд в сторону: зарубежные инсценировки.
Они не учтены в нашем театроведении, но волею судеб одна из них оказалась в поле моего зрения. Пражский молодежный театр «Рубин», сезон 1978 года. Весьма современный театр: не более полсотни зрителей; в середине зальчика — нечто вроде боксерского «ринга», только вместо канатов — трапеции: можно качаться. Минимум предметов. Смысл спектакля — любовный треугольник; мужчина неважен, несуществен; главное — две женщины: одна — мягкая, добрая, беззащитная, матерински щедрая; другая — острая, волевая, агрессивная: подбородок вперед. Автор спектакля Зденек Потужил отказывается решать, кто из них прав; он говорит: такова жизнь. Да, люди обижают друг друга, но это нельзя изменить и поправить: мир жесток и неисправим. А раз так, то в этом мире надо жить, находя в нем доброе, и в него, несмотря ни на что, верить. Афиши и диалоги свидетельствуют, что это — история любви Катерины, Сергея и Сонетки из очерка Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»… Ни за что бы не догадался.
Нет сомнения, что пражский «Рубин» — не единственный зарубежный театр, инсценировавший очерк: популярность его, особенно в славянских странах и странах с немецким языком, дает к тому достаточные основания. Эта тема большею частью театроведческая, нам же нужно одно: ощущение горизонтов лесковского наследия.
Обратимся к художникам.
Начало — 1930 год. Впрочем, формально говоря, раньше. Сохранилась небольшая картинка М. Микешина: звездная ночь, тенистый сад, романтическая красавица в белом вытянулась в объятьях черноусого молодца — что-то знойное, экзотическое, скорее «кавказское», чем русское, и уж вовсе не лесковское; картинка (акварель, гуашь — смешанная техника) относится к 1890-м годам и хранится в московском Литературном музее; в лесковских изданиях она не воспроизводилась; ее мало кто знает. Так что начало осмысления лесковского очерка художниками все-таки откладывается на треть века.
Итак — 1930 год: Ленинградское «Издательство писателей» выпускает «Леди Макбет Мценского уезда» с иллюстрациями Бориса Кустодиева. Художника уже нет в живых — работы его взяты из архива. Сделаны они были — для другого издательства, для «Аквилона», семью годами раньше: в 1922—1923-м. [14]
Обе даты существенны. Общественный резонанс кустодиевских рисунков начинается с 1930 года, когда интерес к лесковскому очерку становится всеобщим; сделаны же они в пору, когда ни резонанса, ни каких-либо истолкований лесковского сюжета еще нет, ни даже сам очерк еще не переиздан, а покоится в дореволюционных собраниях сочинений Лескова. Кустодиев осмысляет сюжет как бы в вакууме, он начинает «с нуля»: идет от текста и только от текста.