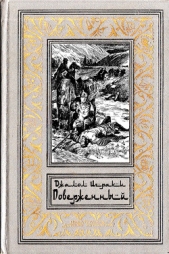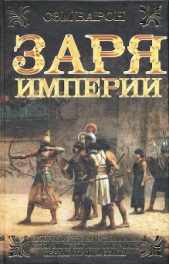Эссе и рецензии

Эссе и рецензии читать книгу онлайн
Здесь собраны эссе и рецензии с диска "ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ" выпущенного в 2005 году. Во избежание повторов, эссе, уже сожержащиеся в книгах "Набоков о Набокове и прочем. Рецензии, эссе" и "Лекции о Русской литературе. Приложение", были безжалостно удалены. Кроме того добавлены две заметки, найденных на сайте lib.rus.ec (Памяти "А.О. Фондаминской" и "Писатели и эпоха"). Обложка выбрана случайно (просто знаю, что это хорошее издание)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1929 А. ДАМАНСКАЯ. ЖЕНЫ
Париж
(Впервые: “Руль”, 25 сентября 1929.)
Татьяна Михайловна Мятлина, живущая в Париже, существующая уроками (“Ужин, чай, выгладить носовые платки, подготовиться немного к первому утреннему уроку истории — с Ниночкой Еврошиной…”), посылает письмо французскому беллетристу Раймону де Марто (“Я с большим волнением читала вашу книгу. О женской чуткости…так тонко не писал ни один мужчина”) и получает в ответ пышное и хлыщеватое послание, в котором много говорится о славянской душе, безбрежности русской степи и буйстве половецких танцев. Такова завязка первого из шестнадцати рассказов, составляющих новую книгу г-жи Даманской. Посмеяться над Раймондом (и в ком из французских писателей не сидит такой Раймонд) задача для русского автора не трудная. И Даманская выполняет ее изящно, не перебарщивая. Вообще говоря, нашу писательницу привлекает тема франко-русских отношений; вот, например, русский бродяга, разговорившийся с благополучным парижским мещанином, который предлагает ему стакан вина, но особенно тщательно запирает дверь после его ухода; а вот французский следователь, допрашивающий по делу об убийстве певицу Ирен Забольда, по паспорту Заболдину, дочь русского помещика, у которой, по ее словам, (сказанным, по-видимому, в минуту волнения, когда человек теряет власть над родным языком), “дом был полная чаша и всегда полон гостей”.
Конечно, забавно, как француз ищет в глазах эмигрантской труженицы отражение половецких костров, — но впечатление от этой острой иронии несколько ослабляется тем, что сама г-жа Даманская склонна в иных рассказах обобщать жизненные явления с легковерностью иностранца. Было бы, например, вполне нормально, если бы французский автор нашел пряную и занимательную фабулу в том, как в образцового гарсона образцового парижского кафе превращается по воле эмигрантской судьбы прежний русский барин (“Красивым изящным барством дышала вся его большая фигура в летней серой паре, чистотой, довольством, умением жить” — как, к сожалению, пишет г-жа Даманская). Русскому же читателю такая метаморфоза кажется, именно вследствие своей литературной очевидности, несколько сомнительной, и в некотором отношении даже вредной, ибо поощряет иностранцев в нахождении ладожских губернаторов под личиной парижских гарсонов. С тонким юмором вскрывая ошибочные представления французов, г-жа Даманская иногда впадает сама в аналогичные заблуждения. Так, в одном рассказе повествуется о собачке Мусташ, принадлежащей русской барышне, за которой ухаживает женатый норвежец; собачка с ним очень подружилась, но вот — норвежец умирает на скамье бульвара, получив телеграмму о финансовой беде. “Мусташ в этот день не вставал вовсе со своего коврика. Не скулил, не выл, а стонал по-человечески. К полудню его не стало: потом уже установили, что своего друга пережил он на каких-нибудь десять-пятнадцать минут”. Мне почему-то кажется, что если бы собачки (не говоря уже о норвежцах!) умели читать по-русски, им было бы так же смешно узнать о “собачьей душе”, как смешно г-же Даманской читать о “славянской душе”. Конечно, это только предположение, иная бы собачка, быть может, прослезилась.
Впечатление чего-то неточного, непроверенного оставляют и некоторые другие образы в книге. Так, прочтя фразу о женщине, которая “с орошенным кровью лицом шагнула назад”, или о женщине, у которой лицо “заливалось малиновым сиропом”, бесхитростные могут подумать, что в первом случае речь идет об опасном ранении, а во втором о кухонной катастрофе. На самом же деле это только два изысканных способа сказать, что человек покраснел.
Надо, однако, признать, что не всегда г-жа Даманская следует по линии наименьшего сопротивления, не всегда заставляет человека с лицом, перекошенным таинственным страданием, оказываться скрывающимся от суда преступником… Когда автор описывает свой переход через русскую границу или любовь дворника-менестреля, который “министрелил” на балалайке и так “разминистрелился” с горничной Дашей, что жена насилу его отвоевала, — всюду попадается живописный штрих, меткое наблюдение, — и все это легко, без нажима пера. Простой, описательный рассказ, основанный на действительной жизни, — вот настоящая область г-жи Даманской.
1929 КУПРИН. “ЕЛАНЬ” (РАССКАЗЫ)
“Русская библиотека”. Белград
(Впервые: “Руль”, 23 октября 1929.)
“…В гнедых и рыжих надо верить. Не скажу дурного слова и про вороных. Только без нужды горячи и скоро взмыливаются. Относится это отчасти и к караковым и к игреневым…” Как прекрасно, когда у большого писателя есть страсть к чему-нибудь. Обо всем он пишет превосходно, но есть на свете нечто, о чем он особенно хорошо пишет. Зрение и нюх, всегда обостренные у писателя, доходят тогда до предельной проникновенности, и обычный уровень писательской наблюдательности сразу повышается, ибо тут постоянная творческая зоркость облагораживается опытом знатока. Сам Куприн отмечает, что, когда русский человек говорит о своем привычном и любимом деле, поражаешься точности и чистоте языка, сжатой свободе речи и легкой послушности необходимых слов. Когда же не просто русский человек, а русский писатель, получивший от Бога щедрый дар, говорит о том, что он знает и любит, о безысходном в своей нежности и странности влечении, — тогда можете себе представить, какая у него точность и чистота выражений, как волнуют его слова. Так пишет Куприн о прелести лошади, о ее горячем сильном дыхании и чудесном запахе, и, читая этот первый рассказ в сборнике, так и ощущаешь все время под губами теплую, шелковую лошадиную кожу, нежную, ни с чем несравнимую впадину над ноздрей. Чего стоит, например, вот это: “От множества причин еще может зависеть неуспех бега: лошади нездоровилось, а этого не успели доглядеть, проснулась в дурном настроении, видела, может быть, дурной сон”. И сразу наше воображение зажжено упоминанием о сне, который, может быть, видела лошадь, и поневоле чувствуешь, что Куприн даже и это знает — сон лошади, и такое знание для него столь же легкое и естественное, как знание лошадиных мастей. Но безысходность… Куда деть, и как писателю самому себе объяснить волнение, страсть… Ведь человек в данном случае создан как будто только для того, чтобы писать книги и писать их прекрасно, а он “всю жизнь мечтает о тренировке породистых скаковых лошадей”. Руссо мнил себя ботаником (кстати сказать, ботаником он был прескверным, но писал о растениях с большим подъемом); очень возможно, что Куприн, отказавшись от писания книг, был бы прекрасным тренировщиком лошадей, но потеря для русской литературы была бы огромная.
В этом небольшом сборнике есть рассказы не только о лошадях, но и о собаках, о цирке, о волшебной скрипке, о ковре-самолете. Все они, конечно, очень купринские. Талант автора так и прыщет из каждой, даже неряшливой, строки; однако почему-то сдается, что иные страницы являются просто быстрыми записями, просто материалом, — живым и богатым материалом, — для более гармонических и строгих трудов.
Но грех пенять, — очень все-таки хорошо, очень хорошо.