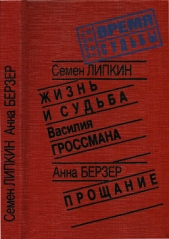Цех пера. Эссеистика
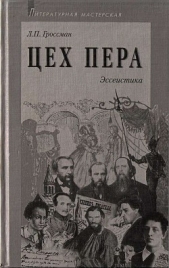
Цех пера. Эссеистика читать книгу онлайн
Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930). Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами. Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он следил за возведением новых музеев, библиотек, пропилеев, триумфальных арок и соборов. Он должен был участвовать во многих актах королевского правительства: при нем старая Сальваторская церковь была отведена православной пастве.
Он, конечно, прекрасно знал мюнхенские картинные галереи. В эту эпоху живые лица напоминают ему часто музейные полотна: жена Жуковского представляется ему как бы нарочно сошедшей для поэта с хорошей картины старинной немецкой школы. Так неожиданно в тонком ценителе женской красоты обнаруживается частый посетитель Пинакотеки.
Дипломатическая служба Тютчева долгое время протекала в Италии. Это была его вторая родина. Семейное предание возводило род Тютчевых к итальянским выходцам и указывало на сохранившуюся среди флорентийского купечества фамилию Dudi. И недаром Тютчев перевел знаменитую гетевскую песнь Миньоны — эту поэтическую жемчужину вечной итальянской ностальгии, этот прекраснейший гимн художнической тоски по стране миртов и беломраморных дворцов. Он в себе носил зерна этой тоски. И часто под свинцовым северным небом он широко раскрывал свои глаза ночной птицы и сквозь морозную мглу прозревал золотые всплески «великих средиземных волн» и пламенеющий на солнце «роскошной Генуи залив»,
Где поздних бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет…
Его собственное творчество переливается этими итальянскими отражениями. Он любит описывать «Рим ночью», «Итальянскую виллу» или обручение дожей с Адриатикой под «тенью львиного крыла».
Так впивал в себя Тютчев чары различных культур. Всюду — в Мюнхене, в Турине, в Риме, Париже — он приобщался к этим очагам отстоявшейся древней красоты и жадно пил из пробивающихся источников новых творческих потоков. Всюду он чувствовал, как чужд этот мир неумирающего прекрасного всем шквалам проносящихся мятежей, какая глубокая правда и ясная мудрость таится в тишине его святилищ и как ужасно вечное восстание Робеспьера на Аполлона.
VII
Каким же образом этот идеолог контрреволюции, напоминающий Казота напряжением своих анафем против врагов престола и церкви, пришел к концу жизни к их бушующему стану? Как мог этот фанатический легитимист ждать от Красного спасения России и радоваться вступлению Европы в период народовластия?
Прежде всего на его глазах закатывалась священная империя. Венчанные представители Провидения на европейских тронах его поры должны были окончательно дискредитировать в его глазах догмат власти Божьей милостью. Император Николай, глубоко осужденный Тютчевым за оскорбительное попирание народного духа, «Австрийский Иуда» Франц-Иосиф, король-мещанин Луи Филипп или актер на троне — последний Наполеон, этот «великих сил двусмысленный наследник», — к кому из них Тютчев, зачарованный образом Карла Великого, не мог бы обратить восклицания Гамлета: «Король-паяц, укравший диадему»?
В личности Николая он прозрел многое. В огненном испытании крымской кампании Тютчев с мучительной ясностью разглядел все преступные заблуждения этого мрачного государя. Перед страшной внутренней неурядицей, разоблаченной грозною войною с европейской коалицией, Тютчев понял, что «официальная Россия утратила всякий смысл и чувство своего исторического предания». Его привели в уныние эти непростительные грехи власти, все эти «старые гнилые раны, рубцы насилий и обид, растление душ и пустота». Перед неожиданной действительностью, оскорбляющей и разбивающей все его нравственное существо, целое царствование представилось ему сплошной эрой греха, тирании и позора. Он изнемогал от тоски и отвращения: «Может быть, и не все потеряно, — пишет он после ряда катастроф, — но все изломано, перепорчено, подорвано в своей силе надолго. Разум подавленный, как ты мстишь за себя!»
И каким мятежным дыханием охвачены его строки, призывающие гнев Божий «на чела бледные царей». «И вот какие люди ведут теперь судьбы России сквозь самый ужасный кризис, когда-либо сотрясавший мир! Нет, невозможно не чаять близкого неминуемого конца этой возмутительной бессмыслице, страшной и в то же время нелепой, заставляющей в одно и то же время хохотать и скрежетать зубами, этому противоречию между людьми и делом, между тем, что есть и что должно быть. Перед нами все еще видение Езекииля: поле покрыто сплошь сухими костями. Эти кости оживут ли? Ты веси, Господи. Но, конечно, оживить их могло бы разве дыхание Божие — дыхание бури»!..
Несчастные позорные войны, неизбежно пробуждающие революционный дух, не пронеслись бесследно мимо Тютчева. Они зажгли в нем пафос возмущения и до пророчества прояснили его восставшую и негодующую душу.
Среди его политических строф есть одно поразительное прорицание. В стихотворении «На новый 1855 год», за полтора месяца до кончины государя, Тютчев предсказывает его смерть, как неизбежное возмездие за вызванную им бессмысленную катастрофу. Он заявляет, что рождающийся в железной колыбели год будет «не просто воитель», но исполнитель Божьих кар:
Для битв он послан и расправы,
С собой несет он два меча:
Один — сражений меч кровавый,
Другой —
секира палача.
Но на кого:
одна ли выя,
Народ ли целый обречен?
Слова неясны роковые
И смутен замогильный сон.
Тютчев имел право сказать в первой строфе стихотворения, что раскрывает в нем «не свое», но бред пророческих духов. Предопределением свыше веет от этих цареубийственных строк. Кажется, они насквозь охвачены ужасом отсекновения венчанной главы.
Мрачное трехлетие севастопольской войны тяжко ранило Тютчева. И глубоко измученный позорными событиями, он переводит знаменитую строфу Микеланджело с плиты спящей Ночи:
Молчи, прошу, не смей меня будить!
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный,
Отрадно спать, отрадней камнем быть!
Редко переводчик выражает чужими словами столько накипевшей личной боли. Да, не жить, не чувствовать. Родина под пятой врага, вожди и властители тонут в собственных ошибках, Севастополь падает, народ истекает кровью, гибнут герои, здравствуют мертвецы… «Deh, parla basso!»
Так на глазах у Тютчева гас священный дух монархической власти. Российский абсолютизм давно уже перестал вызывать в нем мистическое благоговение. Еще свое послание к декабристам он начинал восклицанием: «Вас развратило самовластье!» И впоследствии он категорически провозглашает, что борьба России с революцией ведется «не за коран самодержавья».
Но севастопольский разгром окончательно помрачил в его глазах священный ореол монархизма. Он это понял вскоре после катастрофы в торжественную историческую минуту миропомазания нового государя. Находясь в свите Александра II во время московской коронации, он понял всю тщету попыток умирающей власти облачить себя в бармы ушедшего величия.
Он проникся глубокой жалостью к ее носителю. Когда он увидел в Успенском соборе под пышным балдахином «бедного императора» с короной на голове, бледного, утомленного, с трудом отвечающего на все клики народа наклонением головы из-под громадной сверкающей короны, — он почувствовал все то убогое, слабое, человеческое, что скрывается за жестами непризванных властителей. И когда обряд коронования омрачился неприятным эпизодом, — венец упал с головы государыни, — он, забыв о рангах, просто по-человечески пожалел императрицу. «Бедная женщина», пишет он в своих письмах. Ничего, кроме сострадания.