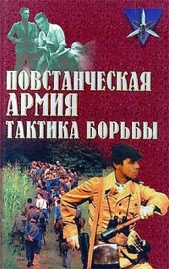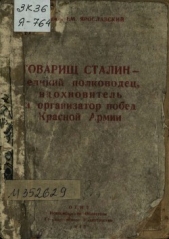Сталин и писатели Книга четвертая
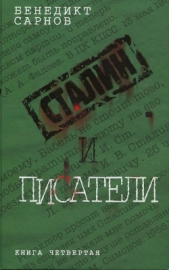
Сталин и писатели Книга четвертая читать книгу онлайн
Четвертый том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должен стать завершающим. Он состоит из четырех глав: «Сталин и Бабель», «Сталин и Фадеев», «Сталин и Эрдман» и «Сталин и Симонов».
Два героя этой книги, уже не раз появлявшиеся на ее страницах, — Фадеев и Симонов, — в отличие от всех других ее персонажей, были сталинскими любимцами. В этом томе им посвящены две большие главы, в которых подробно рассказывается о том, чем обернулась для каждого из них эта сталинская любовь.
Завершает том короткое авторское послесловие, подводящее итог всей книге, всем ее четырем томам,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
► — В основном, в общем Гитлер изменил не соотношение, а лишь положение частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, мусор, дрянь всякая, всё, что таилось и скрывалось, всё это фашизм поднял на поверхность, всё это полезло вверх, в глаза, а доброе, разумное, народное — хлеб жизни — стало уходить вглубь, сделалось невидимым, но продолжает жить, продолжает существовать...
Приведя это объяснение, я тогда писал:
► Всё, о чем говорил в откровенном своем разговоре с Штрумом академик Чепыжин, крепко рифмовалось с тем, что все мы видели вокруг — не в Германии, а в родной своей стране, в любезном нашем отечестве.
Крестьяне, любившие землю и умевшие работать на этой земле, — этот истинный «хлеб жизни» — были уничтожены. Те же из них, кто уцелел, «ушли на дно», сделались невидимыми. Наверх же полезла всякая муть и дрянь. Болтуны, крикуны, умевшие только «руководить», а не работать. Тусклые партийные функционеры, не способные связать двух слов, важно поучали седовласых академиков. Вся страна — от дворника до президента Академии наук — должна была изучать историю по лживому и примитивному «Краткому курсу истории ВКП(б)». В литературе торжествовали Бубенновы и Бабаевские со своими «Кавалерами золотой звезды» и «Белыми березами», в театре — Софроновы и Суровы со своими «Стряпухами» и «Зелеными улицами». Мейерхольд и Бабель были расстреляны, Мандельштам погиб в лагере, Цветаева повесилась, Платонов выкашливал последние легкие, подметая литинститутский дворик, «ушли на дно» Ахматова, Зощенко, Пастернак, Заболоцкий, Булгаков...
Таково было тогда «соотношение частей» в нашей «жизненной квашне». И не замечать всего этого мог только слепец. Или человек, притворяющийся слепым.
Я вспомнил все это здесь и сейчас и решился повторить, напомнить об этом читателю, потому что нечто похожее случилось со мною и в 1946-м, когда я впервые читал пьесу Симонова «Русский вопрос». Вот эту ее сцену:
► Г у л ь д (холодно). Во-первых, с завтрашнего дня ты будешь нищим.
С м и т. Возможно.
Г у л ь д. Во-вторых, рано или поздно от тебя уйдет Джесси.
С м и т. Возможно. Но не стоит говорить об этом сейчас...
Г у л ь д. Я тебе говорю как друг — твой и ее.
С м и т. Замолчи. И больше ни слова о дружбе. Я знаю все о том, что у вас было в Австралии. И довольно об этом.
Г у л ь д. Она тебе сказала?
С м и т. Нет, я просто знаю сам.
Г у л ь д. А она — она знает, что ты...
С м и т. Конечно, нет. Когда у женщины бывает черное пятно в жизни (кивнув на Тульда с откровенной насмешкой), а особенно такое, — порядочный человек никогда не напоминает ей об этом. (Пауза.) Не подходи ко мне. Дело не ограничится мелкой дракой. Я просто убью тебя. Лучше сядь. Вот так. И я сяду.
Оба садятся.
Сказать по правде, я очень давно не люблю тебя, Джек Гульд. Еще со школы, где мы учились вместе. Я не люблю тебя за то, что таким, как ты, удобнее, чем мне, жить в моей стране, которую я все-таки люблю, люблю, несмотря на ваше присутствие в ней. Я не люблю тебя за то, что ты смеешься над честностью, за то, что я в десять раз талантливей и в сто раз бедней тебя. Я не люблю тебя за то, что моя жена была когда-то твоей любовницей, не потому, что она любила тебя, а потому, что ты всегда поспеваешь вовремя дешево купить дом, когда умер хозяин, и дешево приласкать женщину, когда она одинока. Я не люблю тебя за то, что ты считаешь, что быть подлецом — это естественное состояние человека. И еще больше за то, что ты чуть не заставил и меня поверить в это.
Мысли, которые пришли мне в голову, когда я читал этот отрывок, были не такими ясными и определенными, как те, что осенили меня, когда я вникал в рассуждения гроссмановского академика Чепыжина. Но это были те же самые мысли.
► — Я не люблю тебя за то, что таким, как ты, удобнее, чем мне, жить в моей стране...
Сколько было вокруг меня людей, которым и я мог бы кинуть в лицо эти слова! Мысленно их повторяя, я всей кожей чувствовал, что сказано это не про Америку, а про ту страну, в которой я родился и жил.
Монолог гроссмановского академика Чепыжина прямо наводит на мысль о близости — и даже тождестве — сталинского и гитлеровского режимов. Хотел ли Гроссман, когда сочинял его, внушить эту мысль читателю?
Вряд ли. С полной, непререкаемой ясностью эта мысль открылась ему много позже. Но в каком царстве-государстве ему выпало жить, он знал хорошо.
Симонов — не Гроссман. И он скорее всего даже не предполагал, что нарисованная им картина американской жизни может быть отражением и нашего, советского мироустройства, которое наверняка представлялось ему безусловно справедливым.
Неприязнь к подлецам, которым в его стране живется удобнее, чем честным людям, была его собственной, личной неприязнью. Но подарил он ее своему герою не для того, чтобы у читателя возникали по этому поводу какие-то, как потом мы стали говорить, аллюзии, а с тою лишь единственной целью, чтобы сделать образ своего Гарри Смита более живым и достоверным. Чтобы он не совсем уж походил на муляж, казался живым человеком.
С тою же целью, — хотя, быть может, и не осознанно, а подчиняясь некоему художественному инстинкту, который все же был ему присущ, — женщину, которую любит и на которой женится этот его герой, он сделал в чем-то похожей на свою любимую — ту, что была героиней его лирического цикла «С тобой и без тебя»:
Именно вот такой предстала перед зрителями Джесси — жена Гарри Смита, которую ему так и не удалось удержать. Особенно это бросалось в глаза в спектакле «Ленкома», где ее играла героиня симоновского лирического дневника Валентина Серова.
Все это, конечно, немало способствовало успеху «Русского вопроса». Но и не отменяло правоты Стейнбека, сказавшего, что герои ее «ходульны, сделаны из папье-маше».
Ну а что касается природы грандиозного успеха этой симоновской пьесы, то она, эта ее природа, ни у кого сомнений не вызывала. В том числе и у самого Симонова:
► Итак, вместо публицистики об Америке, которой от меня ждали в разных редакциях, я за три недели написал пьесу «Русский вопрос» и, как уже упомянул, напечатал ее в «Звезде». Она была предназначена к постановке в одном театре — Ленинского комсомола, а пошла в пяти московских театрах — в Художественном, Малом, Вахтангова, Моссовета, Ленинского комсомола, и в трех ленинградских - в Александринке, в Большом драматическом и в Театре комедии. Как выяснилось, Сталин, особенно внимательно следивший за журналом «Звезда» после постановления ЦК — в этом журнале редактором стал по совместительству московский работник агитпропа ЦК профессор Еголин, — прочел пьесу, она ему показалась то ли хорошей, то ли полезной, — последнее для него как для политика, о чем я потом не раз убеждался, играло, разумеется, первостепенную роль, а вкусовые впечатления только вторую, — и распорядился широко поставить «Русский вопрос». Пьеса, наверное, и так пошла бы по стране широко, но, разумеется, в пяти московских театрах сразу ее бы никто не ставил.
Уже не помню сейчас, что предшествовало чему — Сталинская премия за эту пьесу распоряжению о постановке ее в пяти театрах Москвы или постановка — премии. Но не в этом суть дела, а в том, насколько категоричным было указание. Когда я пришел в Комитет по делам искусств и попросил тогдашнего его председателя, чтобы — да простится мне это задним числом — пьесу не ставили хотя бы в пятом московском театре, в Вахтанговском, о чем я узнал в последнюю очередь, он в ответ только развел руками, сказал, что это вопрос решенный, решенный не им, и не в его возможностях что-либо тут менять.