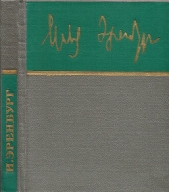Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Портрет Эренбурга, который нарисован Надеждой Яковлевной Мандельштам, признаться, немного коробит поверхностностью, неясностью психологических красок и отзвуком прежних — не всегда выверенных — ощущений от встреч. Вместе с тем Надежда Яковлевна со свойственной ей решительностью пытается правдиво, с ее точки зрения, описать состояние собеседника: «Он был в отчаянии: Европа рухнула, мир обезумел, в Париже хозяйничают фашисты… Он переживал падение Парижа как личную драму и даже не думал о том, кто хозяйничает в Москве».
Наверное, не совсем так. В 1940 году у Эренбурга не существовало другого выбора. Важная деталь — не у одного Эренбурга не было выбора. Многие притворялись, лицемерили, изворачивались, скрывали подлинные мысли, боялись и в личном плане старались помочь ближнему и никому не нанести вреда. Врачебный совет — noli nocere! — являлся, между прочим, символом сопротивления системе. Чтобы это понять, надо в ней пожить.
«В новом для него и безумном мире Эренбург стал другим человеком — не тем, которого я знала многие годы… Я запомнила убитый вид Эренбурга, но больше таким я его не видела: война с Гитлером вернула ему равновесие, и он снова оказался у дел», — заключает мимолетную зарисовку в общем доброжелательный автор.
Надежда Яковлевна — весьма популярный и уважаемый мемуарист и, конечно, вольна передавать собственные впечатления — впечатления современницы, близко знавшей Эренбурга, с помощью выражений, какие ей угодны. Но наше право — право читателей и тех, кто пристально вгляделся в лицо Эренбурга, — выразить собственное мнение об используемой лексике, которая доносит до нас определенные настроения и мысли. Внутренне небезобидные характеристики событий и черт личности — «отсиживался», «жовиальность», «снова оказался у дел» — вряд ли строго отвечают реальности и вызывают странное протестующее чувство, будто пишет не жена Мандельштама, знакомая Эренбургу со времен революции, Гражданской войны и лихих 30-х годов, а какой-нибудь Симонов или того плоше.
Дальнейшие рассуждения Надежды Яковлевны о «победителях» и дружбе с ними Эренбурга не воспринимаются всерьез. Это смесь расхожих упреков людей ординарных и равнодушных к целям Эренбурга с желанием оснастить эти упреки еще одной деталью, вроде бы объясняющей поведение: «…он постарался воскресить те иллюзии, которые помогали ему жить». Все эти сентенции мало отвечают реальности и не сообразуются с вышесказанным ранее, что Эренбург хотел что-то сделать и делал для людей. Но как он мог надеяться пусть на скромный успех, если открыто выступил бы против коммунистического режима хоть однажды? О Сталине здесь и речи нет. Сталин погубил Мандельштама невзирая на хвалебную оду. Он не поверил, что стихи про широкую грудь осетина — случайность. А за Эренбургом числилось многое. Иван Солоневич в книге «Россия в концлагере» несколько раз с приязнью и точным намеком на мысли Эренбурга упоминает его, а эта книга, изданная в Софии в 1936 году и читанная, безусловно, и на Старой площади, и в Кремле, и на Лубянке, покрепче солженицынского «Архипелага ГУЛАГ» била по режиму, марксизму-ленинизму, Сталину и пенитенциарно-экономической системе страны — била и вернее, и точнее. Солоневич, бежавший балтлаговец, знал, что почем. И ссылка на Эренбурга у Солоневича весьма любопытна и уместна.
Впрочем, где Эренбург, там всегда клубок противоречий и слабоватое понимание, а иногда — и непонимание побудительных мотивов.
Фрагменты из главы у Надежды Яковлевны «Немножко текстологии» тоже конфликтуют с письмом, которое она отправила Эренбургу весной 1963 года в разгар замораживания «оттепели» и после скандальных обвинений в адрес советской интеллигенции и в период ее охлаждения, в частности, к Эренбургу. В своей эпохальной речи Хрущев говорил о недавнем идеологическом фаворите в непозволительном тоне, испугавшись взятой на себя роли могильщика сталинизма.
Отрывок из письма Надежды Яковлевны приведен в предисловии к однотомнику стихов, вышедших в серии «Новая библиотека поэта» со ссылкой на личный архив Эренбурга: «Ты знаешь, что есть тенденция обвинять тебя в том, что ты не повернул реки, не изменил течения светил, не переломал луны и не накормил нас лунными коврижками. Иначе говоря, от тебя всегда хотели, чтобы ты сделал невозможное, и сердились, что ты делал возможное. Теперь, после последних событий, видно, как ты много делал и делаешь для смягчения нравов, как велика твоя роль в нашей жизни и как мы должны быть тебе благодарны. Это сейчас понимают все».
И опять припоминаются слова из обращения к Эренбургу Варлама Шаламова.
Мысли Надежды Яковлевны прожектором освещают тернистый путь Эренбурга, его борьбу, мечты отнюдь не эгоистические, стремление к реальным свершениям, а не к звонкой — рудинской — фразе. Эренбург не имитировал действие, как большинство коллег. Такой имитацией занимались многие в послесталинскую эпоху. Он старался добиваться ощутимых итогов или прямо и честно отказывался от своих намерений. Нередко он терпел и неудачи. Главной из таких невозможностей оказалась до сих пор никак не осуществленная и его потомками эренбурговская мечта: выпустить в России на русском языке «Черную книгу». Через четверть века «Черная книга», едва не стоившая ему жизни, этот эпический рассказ о геноциде и Холокосте, все-таки стала достоянием русского и русскоязычного читателя, но выпустили ее не в России, а за границей — в Литве, уже в перестроечные — смутные — времена: в самом их начале. Времена, впрочем, как сказал поэт, не выбирают: в них живут и умирают. Выпуск «Черной книги» на родине Эренбурга — в России — дело далекого будущего. Далекого, но неотвратимого. Уж если цитировать поэтов, то тут стоит вспомнить и Александра Блока, знавшего кое-что о России, чего мы понять до сих пор не в состоянии: и невозможное возможно!
Эренбург двигался по необъяснимой и извилистой траектории — от будто бы возможного к абсолютно невозможному, которое в конце концов становилось возможным — пусть наполовину. Наступит год — черный для националистов и ненавистников Эренбурга, — и какое-нибудь московское издательство отважится и даже почтет за честь выпустить «Черную книгу», самым подробным образом познакомив мир с историей ее составления и равных Холокосту мытарств при издании.
Когда я утверждал, что каждый из оставшихся в живых после войны найдет в «Черной книге» близкое себе — пусть локальное — трагическое событие, я имел в виду весьма конкретные, имеющие прямое отношение ко мне обстоятельства. Странным образом то, что происходило в Киеве в Бабьем Яру, совпадало какими-то чертами с тем, что случалось в Семипалатинске на улице Сталина, 123 и за кулисами театра имени Ивана Франко. Я надеюсь, читатель, что ты не забыл, какой совет мне дала Ирина Ивановна Стешенко — тетя Орыся: как избавиться от картавости? Тогда меня меньше будут колотить в школе и особенно — во дворе нашего дома. Она рекомендовала каждый день произносить рабочие — логопедические — слова: кукуруза и воробей. Я к ним давно привык. Ребята часто загоняли меня в угол и заставляли их повторять. Я ненавидел эти слова. Однако ключевым звукосочетанием оказывалась все-таки фамилия Эренбурга, взятая тетей Орысей из газет.
— В ней два раскатистых звука эр. То, что нужно.
Я не возражал — фамилия у меня на слуху. Испания, испанка с кисточкой, no pasaran, развалины Мадрида, фотографии вооруженных винтовками парней ненамного старше меня. И я с восторгом прокатывал: Эр-эн-бург! Все же лучше, чем проклятые воробей и кукуруза!
Эренбург! Я быстро добился колоссальных успехов. Теперь меня преследовали только за то, что я коверкал русский язык, то есть еще не полностью перешел с украинского на привычный для семипалатинцев диалект. Русским его назвать было нельзя. Даже школьные преподаватели изъяснялись на каком-то суржике.
Тетя Орыся, несмотря на некрасоту, принадлежала к совершеннейшим ангелам. Происходила она из знатной, разгромленной советской властью семьи Старицких. Мать — Оксана Михайловна Стешенко — дочка Михайлы Старицкого, автор популярной хрестоматии для детей «Родные колоски», занималась педагогикой, писала литературоведческие статьи и даже играла в театре. Вышла замуж за Ивана Матвеевича Стешенко, уважаемого в среде украинства литератора и исследователя творчества Шевченко, Стороженко, Котляревского и многих национальных драматургов. Сочинял и стихи, вышедшие двумя отдельными книгами. «Хуторские сонеты» и «Степные мотивы» молодежь знала наизусть. В 1918 году Ивана Матвеевича, как полагается, расстреляли большевики. Оксана Михайловна чудом спаслась.