Бескорыстие
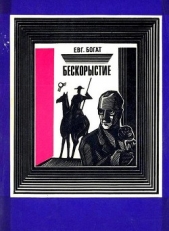
Бескорыстие читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А у вас что самое любимое на этом лугу? — спросил я.
Ответ его меня удивил:
— Музыка. Рояль.
Я посмотрел на его руки — руки молотобойца.
— Сами играете?
— На гитаре.
— Наверное, рано начали работать?
— Мальчишкой, с двенадцати лет, после Октября. Помню, голыми руками поднимали трамваи на вагоноремонтном…
Мы вышли на тихую улицу. Темнело, желтый свет в окнах и снег, белеющий все резче, были красивы и волновали, как на картинах старых мастеров.
— Мальчишкой, с двенадцати, — повторил Дмитрий Васильевич. — И все ищу, изобретаю. Первым хочу войти в коммунизм. И я побывал уже однажды в коммунизме. Да! Было это в нашем деревоцехе. Не улыбайтесь. Работали там механизмы для заточки циркулярных пил — несложные, но капризные на редкость. Я думаю, что любую машину, самую даже баловную, можно воспитать, как ребенка. Поручили мне их обслуживать… Они не давались долго, потом ничего, наладил, настроил, стали послушны. И вот нечего мне делать — сами работают. И тогда я, — Дмитрий Васильевич рассмеялся, — натаскал в цех глины и начал лепить портреты рабочих с натуры. Механизмы жужжат, а я леплю или рисую. Не разберешь, цех это или художественная студия. Вот и при коммунизме, я думаю, будет сидеть человек у пульта и, пока машины работают, писать портрет возлюбленной, или читать Шекспира, или наблюдать небо в портативный телескоп — что кому интереснее. И все на этом заводе-автомате будет красиво и разумно, чтобы думалось хорошо о самом дорогом. Разумно и красиво…
Тут я невольно вспомнил о вещах, которые показывали мне несколько месяцев назад в Чехословакии инженеры и рабочие — энтузиасты эстетики труда. Я держал в руках инструменты не только безупречно точные, но и волнующе изящные — индустриальная культура нашего века славно соединялась с чистотой форм, честное слово, античных. Я видел оборудование, окрашенное в различные цвета, чтобы человек меньше уставал и празднично воспринимал окружающее. Видел цехи со стенами из стекла, за которыми осенью падают листья, зимой — снег, весной распускаются почки, и кажется, ничего не отделяет тебя от этого волшебного мира. И я подумал опять: до чего же это хорошо! И нужно. Нам в особенности.
Дмитрий Васильевич между тем развивал мысль:
— Через два десятка лет автоматизация станет повсюду обыденной вещью. А вот душа рабочего не заскучает, когда рукам нечего будет делать? Поставьте сегодня у пульта Степана Левичева, который — видели? — снимает опоки у конвейера. Думаю, заскучает. А душа его — клад. Расколдовать его надо!
Мы долго молча шли по вечереющей улице. Потом я попросил:
— Покажите мне ваши рисунки.
В маленьком доме на окраине города он познакомил меня с женой и дочерью-инженером. В одной комнате висели две картины: написанный маслом портрет дочери и копия «Девятого вала» Айвазовского. В другой — на столе, за который меня усадили, лежали книги, раскрытая тетрадь. Пока хозяин что-то искал за моей спиной в шкафу, я быстро читал названия: «Автоматика», «Литейное дело», «Гидравлика», «Керамика», «Авиация». И в тетрадь заглянул, — не удержался, — увидел чертеж тонкий и точный, со светотенью; рядом скупые строки: состав шихты полупостоянной керамической формы — графит, корунд, кварцевая пудра…
— Вот. Писал с натуры. Осенние этюды… — Дмитрий Васильевич положил передо мной несколько акварелей.
Краски были легки, нежны. Береза в облетающей серовато-золотистой листве. Заглохший зеленоватый пруд. Деревенская улица в час заката: темный, почти черный ряд домов на густом ярко-оранжевом небе.
— Если можно, покажите еще что-нибудь. Хорошо бы портреты.
— Я у себя почти ничего не оставляю. Раздариваю… Если по душе — пожалуйста, берите…
Он порылся в шкафу, нашел несколько рисунков.
— Наброски, не больше…
Передо мной были мужские портреты в акварели и карандаше. Мужественное, даже суровое лицо с резко очерченными морщинами, горьким и волевым изгибом рта… А вот лицо, тоже суровое, но в запекшихся губах — обещание улыбки… И я вдруг понял, что имею дело с настоящим, талантливым художником, для которого нет в мире ничего ближе и важнее человека.
— Я рисовал это в больнице, — пояснил он. — Товарищи по палате.
Я перевернул лист и увидел портрет врача, видимо хирурга, — лицо утомленное и, я бы сказал, горестно-счастливое, с крупными каплями пота на лбу…
— Врачей пишу часто, — сказал Дмитрий Васильевич. — Это моя добрая месть им. Не понимаете? Двадцать пять лет назад несчастье вошло в мою жизнь… Я попал в автомобильную катастрофу, и меня изломало насмерть. Десять дней и ночей я лежал без памяти, на одиннадцатую очнулся, услышал за тонкой перегородкой разговор — обо мне. Мужской голос, доктора, твердо говорил: «Жить, думаю, будет, но работать в полную силу, тем более картины писать, — никогда». А женский — тихо плачет. Жена… Забылся я, а под утро очнулся опять. Неужели, думаю, уйду, не оставив ничего людям?! И весь этот мир и все его богатство не для меня теперь? Лежу в бинтах от пят до ушей, тело чужое, точно немое, и только сердце — живое, мое, в самом горле стучит. Из больницы я не выписался — убежал, хоть и ноги передвигал едва, и стал работать, думать, писать! И снова меня укладывали в больницы, и опять я убегал, раз даже через окно. И с тех пор рисую врачей. Это моя добрая месть им за то, что не верили, что буду писать… — Он лукаво сощурился. — Лет пять назад грохнулся, затмилось сознание, чуть не умер. Отлежался и стал умолять женщину-врача: «Не записывайте в инвалиды, работать хочу!» Она мне с непреклонной лаской в голосе: «У вас же нет сил, дорогой товарищ». Из самого твердого камня я высек ее портрет: вот моя сила! Убедил. И от радости, что на заводе оставили, чуть с ума не сошел, осточертел нашему БРИЗу — то новый метод обработки дерева под лакировку тащу, то заявку на замену металла в пресс-формах техническим фарфором, то конструкцию малошумного барабана… Тогда же задуман и самое мое дорогое — литейный цех-автомат… Хорошая была осень!..
Потом он показал мне последнее, что было у него дома: три «академических рисунка», выполненных в изостудии «ради самоусовершенствования». И уже второй заставил меня забыть обо всем: передо мной было сокровенно улыбающееся лицо Эсхила, по-видимому один из вариантов рисунка, который меня изумил.
— Вы читали когда-нибудь трагедию о Прометее?
— Это мое любимое, — ответил он. — Наизусть помню. Не все стихи, конечно…
— Почитайте!..
Мне вдруг безумно захотелось услышать в этом домике, на окраине подмосковного города, монолог, в котором Прометей, закованный в железо, бросает вызов Зевсу, говорит о безмерной любви к людям.
— Нельзя, — возразил он строго. — Это надо читать торжественно, под рояль…
— Почитайте сейчас!.. — повторил я. — Пожалуйста.
Он снял со стены гитару, сел, наклонив голову, осторожно коснулся струн.
Голос его задрожал, в глазах заблестели слезы. Он положил ладонь на струны, заставил их замолчать.
— Вас, наверное, удивляет, что я помню эти стихи наизусть. Много лет назад я услышал их по радио в тяжелый час. Они помогли мне выйти к людям. Потом я понял, что смысл их шире моей личной боли…
Он читал, перебирая струны гитары:
— Да! — Он поднял голову, посмотрел на меня строго, даже торжественно. — Огонь, который подарил Прометей людям, они в ладонях сберегли от ветра, донесли до нашего века. И Ленин разнял те ладони, поднял огонь высоко, всю землю осветил. Наша забота, чтобы пылал все выше, жарче… — Помолчал и улыбнулся. — Этот Прометей был совершенно замечательным человеком! Он умел делать все: врачевать раны, строить корабли, избавлять от телесного труда… Понимал и науку чисел, и язык муз. Все!.. Был он вроде итальянца Леонардо да Винчи или нашего Михайлы Ломоносова.
























