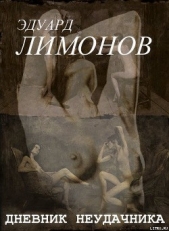Газета День Литературы # 78 (2004 2)

Газета День Литературы # 78 (2004 2) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В эти же "свинцовые" и "пороховые" тридцатые последует ссылка Мандельштама в Воронеж, где, работая с поразительной плодотворностью и самоотдачей, он создаст свой лучший, близкий к поэтическому совершенству цикл "Воронежские тетради". Вот небольшие отрывки всего лишь их двух стихотворений, датированных маем 1935 г.: "И не ограблен я, и не надломлен,/ Но только что всего переогромлен./ Как Слово о Полку, струна моя туга,/ И в голосе моём после удушья/ Звучит земля — последнее оружье -/ Сухая влажность чернозёмных га!". Или: "Да, я лежу в земле, губами шевеля,/Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:/ На Красной площади всего круглей земля/ И скат её твердеет добровольный…/ Откидываясь вниз до рисовых полей,/ Покуда на земле последний жив невольник." Преступно "подрывные, антигосударственные, античеловеческие и антирусские", по терминологии Андрюшкина, стихи, не правда ли? Туда же, в Воронеж, Ахматова ответит опальному другу-поэту одноимённым стихотворением: "А над Петром воронежским — вороны,/ Да тополя, и свод светло-зелёный,/ Размытый, мутный, в солнечной пыли,/ И Куликовской битвой веют склоны/ Могучей, победительной земли". Типично непатриотичные строки "железного стратега еврейской литературной среды", как утверждает, глубоко копая историческую "конспирологию", Андрюшкин, не так ли?
Всё страшное лихолетье и 20-х, и 30-х годов рядом с жерновами кровавой человеческой мясорубки жили и Ахматова, и Мандельштам. Жили, "шевеля кандалами цепочек дверных", каждодневно ожидая новых расстрелов друзей и близких, ночных обысков, ареста, смерти. Известно, что ещё до Воронежа, во время первой ссылки в Чердынь, Мандельштам пытался покончить с собой, выбросившись из окна больницы, где содержался, сломал себе руку. На исходе воронежской ссылки, в обстановке неослабевающей травли поэт отправил отчаянное письмо К.Чуковскому, где попросил организовать в свою защиту обращение писателей Сталину: "У меня безо всякой вины отняли всё: право на жизнь, на труд, на леченье. Я сказал — правы меня осудившие. Нашёл во всём исторический смысл. Отказался от самолюбия. Я работал, очертя голову. Меня за это били. Отталкивали. Создали нравственную пытку. Через полтора года я стал инвалидом. Я поставлен в положение собаки, пса. Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть". Ни от Чуковского, ни от других писателей ответа так и не последовало. Одно дело в складных, веселящих детвору стишках понарошку воевать со страшным усатым тараканищем или вызволять из паучьего полона цокотух, и совсем другое — "по-взрослому", всерьёз вступиться за товарища по цеху, рискуя собственным благополучием. Это только "от великого до смешного один шаг", а между благим намерением и благородным поступком чаще всего пролегает бездна. Во время воронежской ссылки Мандельштама с явно провокационной целью заставили прочесть доклад об акмеизме. "Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мёртвых", — сказал он. Шёл 1937 год.
Изредка наведываясь после ссылки в Москву (разрешения остаться в столице получено не было), переживая тяжелейший душевный и физический недуг, Мандельштам с непонятным даже для близких друзей упорством добивался, чтобы в Союзе писателей устроили его поэтический вечер. Поэту хотелось быть если не понятым, то хотя бы услышанным. Вечер был даже назначен, но храбрецы-литераторы прийти на него так и не решились. По свидетельству Ахматовой, Мандельштам по телефону приглашал Н.Асеева, но тот как бы между прочим ответил: "Я иду на "Снегурочку". Незадолго до этих событий, обращаясь то ли к "славным ребятам из железных ворот ГПУ", то ли к коллегам-литераторам, то ли к тем и другим вместе, Мандельштам писал: "Лишив меня морей, разбега и разлёта/ И дав стопе упор насильственной земли,/ Чего добились вы? Блестящего расчёта:/ Губ шевелящихся отнять вы не смогли".
Видевшаяся в Ленинграде с поэтом незадолго до его второго ареста Анна Андреевна вспоминала: "Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Всё было, как в страшном сне. Кто-то сказал, что у отца Осипа Эмильевича нет тёплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу…Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания Осипа Эмильевича о нём и обо мне и что они были безупречны. Многие ли наши современники, увы, могут сказать это о себе?".
Поэт Рюрик Ивнев, знавший Мандельштама ещё с юности, с 1913 г., в одном из мемуарных фрагментов с редким для внутрицехового соперничества почтением отметил: "Что больше всего ценного в Мандельштаме, кроме стихов, — так это кристальная чистота его души. Казалось, что там, в глубине этой души вечно журчал прозрачный ручеёк. Духовная чистота как бы выпирала из всех пор его организма. Он всегда был особенным человеком, к которому нельзя применять обычных мерок. Есть поэты, которые считаются людьми ничуть не отличными от других. Таких большинство. Осип Мандельштам был только поэтом. Всё другое, кроме поэзии, было вытравлено из него. Он был поэтом, в котором каждая буква этого слова была большой".
В давней уже публикации мюнхенского журнала "Мосты" (1963, №10) приводятся факты о самых последних днях жизни поэта, основанные на свидетельствах тех, кто был вместе с ним в конце декабря 1938 г. в пересыльном лагере "Вторая речка" под Владивостоком. Ещё на этапе Мандельштам стал обнаруживать признаки серьёзного душевного, психического расстройства. Подозревая, что этапный караул получил из Москвы тайный приказ отравить его, поэт перестал принимать казённую лагерную "пайку", но, чтобы не умереть от голода, вынужден был похищать продукты у других заключённых — он считал, что их пайки не отравлены. Соседи по бараку однажды уличили его в краже хлебного пайка и подвергли зверскому избиению, пока не убедились в явном безумии поэта. В конце концов его просто выбросили из барака в зимнюю стужу, он жил около мусорных ям, питался отбросами. Грязный, заросший седыми волосами, длиннобородый, измождённый голодом, в лохмотьях, похожий на ветхозаветного пророка, безумный, заболевший тифом, он превратился в лагерное пугало. Изредка его тайком подкармливал врач из медпункта — любитель стихов, бывший когда-то известным воронежским доктором.
"Где больше неба мне — там я бродить готов,/ И ясная тоска меня не отпускает/ От молодых ещё воронежских холмов/ К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане". Помните эту навсегда околдовавшую нашу память и наш слух небесную музыку русской речи? К какой варварской "расе" нужно причислять себя, чтобы не расслышать это и не помолчать в тревожном изумлении? Есть, слава Богу, на свете стихи, которые совсем не нуждаются в прозаических и занудных истолкованиях. От них просто перехватывает дыхание и щемит сердце.
Желания о чём-либо полемизировать с вопиющим "государственно-патриотическим" невежеством у меня больше нет. Напомню лишь, и себе и вам, пронзительный по своему духовному мужеству молебен святого Игнатия Богоносца, раннехристианского Антиохийского епископа, растерзанного дикими зверями на арене цирка. Слова эти знал наизусть и часто вспоминал Мандельштам: "Я пшеница Божия, и пусть буду измолота зубами зверя, чтобы стать чистым хлебом Господним". В связи с этим процитирую напоследок одни из самых известных мандельштамовских строк, которые крупный теоретик и новоявленный вождь расового "патриотизма" Андрюшкин пренебрежительно обозвал "прямо комичными": "Мне на плечи кидается век-волкодав,/ Но не волк я по крови своей,/ Запихай меня лучше, как шапку, в рукав/ Жаркой шубы сибирских степей,-/ Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,/ Ни кровавых костей в колесе,/ Чтоб сияли всю ночь голубые песцы/ Мне в своей первобытной красе./ Уведи меня в ночь, где течёт Енисей/ И сосна до звезды достаёт,/ Потому что не волк я по крови своей/ И меня только равный убьёт".