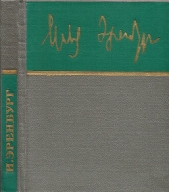Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но самое главное в отзыве Замятина — признание того, что «Эренбург услышал музыку языка в прозе». Правда, Замятин отмечает, что этой музыки языка еще недоставало в «Хуренито» и что он услышал пока не свою музыку. Важно — услышать! «Белый — лекарство очень сильное, очень ядовитое, очень опасное; многих — несколько капель Белого отравили; Эренбург, я думаю, выживет».
Но писатель — это не только язык, писатель — это еще и почва и судьба. В каком-то смысле слова Эренбург — почвенник, что блистательно доказал романом «День второй», военной публицистикой, «Молитвой о России» и стихотворными циклами периода борьбы с фашистской Германией, а также составлением «Черной книги». Собирание материала для нее и редактура превратили Эренбурга в подлинного автора народной эпопеи горя и страданий.
В один из самых критических моментов жизни — в письме к Сталину с просьбой отпустить его за границу — Замятин упоминает об Эренбурге, считая выраженную мысль опорной: «Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы — для переводов на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне?»
Действительно: почему? И впервые Сталин соглашается в ответ на письменное обращение разрешить писателю выезд из страны. Михаил Булгаков в ответ на подобную просьбу получил отказ. Отчего Евгению Замятину позволили, а Михаилу Булгакову — нет? Тайна, которую унес с собой вождь.
Евгений Замятин жил за границей замкнуто, надеялся возвратиться в Россию, не знался с эмигрантскими и антисоветскими кругами и, очевидно, тяготился существованием добровольного изгнанника. Посох Агасфера ему тоже оказался в тягость. Но Сталин проявил широту, продемонстрировал, что способен поступать вопреки большевистским стандартам, и это не могло не подействовать на Эренбурга. Замятин — крупная величина в литературе, мастер русской прозы, и его личная судьба как бы служила положительным примером, но одновременно и вводила в заблуждение европейские культурные круги. В статье сотрудника радиостанции «Свобода» Бориса Парамонова под одиозным и неприличным названием «Портрет еврея: Эренбург», напечатанной в начале 90-х годов ленинградской «Звездой», которую привлек неявный антисемитский душок, есть зловещее примечание: «…не нужно преувеличивать независимость парижской жизни Эренбурга от советской метрополии. Чрезвычайно интересную подробность мы находим в письме Замятина к Сталину, где он просит отпустить его за границу на тех же условиях, что и Эренбурга. Можно только догадываться, что за этим стояло».
Ну, во-первых, об условиях пишет сам Замятин — Борис Парамонов не очень внимательно прочитал письмо или намеренно утаил от читателя вторую часть фразы. Во-вторых, в отношении Эренбурга Борис Парамонов бросает недвусмысленный намек на некие скрытые связи русского парижанина с Лубянкой, потому что только оттуда могли повлиять на жизненные обстоятельства Эренбурга. Никто, кроме Лубянки, не мог оказать подобного воздействия. Если бы Кремль приказал, это было бы осуществлено через агентурную сеть, что не может вызвать ни возражений, ни сомнений. С Эренбургом Борис Парамонов обращается кое-как, и это понятно: ведь речь идет о еврее, которого не все и не всегда жалуют на Западе. Замятин — другое дело. С Евгением Ивановичем нельзя так поступать, как с Эренбургом, по многим причинам. Но что же Борис Парамонов хочет сказать в таком случае о Замятине? На что он намекает? Какие условия в письме к Сталину, кроме тех, о которых ясно написал Замятин, имеются в виду? Замятин выразился конкретно: почему то, что разрешено другому, не позволить и ему?
О чем догадывается Парамонов? Его неусмиренное желание набросить тень на Эренбурга очевидно. Почему прямо не изложить собственную версию, снабдив ее достаточно убедительным доказательным материалом? А то мы Бог знает что можем подумать об Евгении Ивановиче!
У изголовья дивана, рядом с торшером, похоже, самодельным, на уровне валика выделялась не до конца заполненная полка: там я увидел эренбурговский — по синей обложке узнал — альбомчик: продолговатый и не толстый — сто парижских фотографий, сделанных «лейкой» с боковым объективом. Живой предмет съемки не имел понятия, что камера наведена на него. Таким образом Эренбург добивался невероятной естественности в кадре. К альбомчику прислонился серенький «День второй». На корешке крупно набрана фамилия автора. Потом шел любимый роман «Падение Парижа» в обложке, где название замкнуто в синий квадрат, затем — «Буря» в коричневом переплете. Это наверняка издания, к которым чаще обращались. «День второй», похоже, изрядно потрепан. А далее в ряд — бесчисленные книги, в том числе и светло-серо-синий трехтомник «Война», и довоенные выпуски в мягких — конструктивистских — переплетах: «Трест Д.Е.», «Любовь Жанны Ней», «Жизнь Николая Коробова», «Тринадцать трубок» и — Бог ты мой! — каких только там эренбурговских раритетов не хранилось! Сверху — горизонтально — лежали два тонких альбома «Испания», крупного формата, в грязновато-горохового цвета коленкоре. Снимки для них Эренбург взял у испанских фотографов и поместил вперемежку со своими. Небольшая «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», выпущенная в Берлине «Петрополисом», запрещенная в СССР и купленная, несомненно, за баснословную цену, притаилась, чуть дыша, за «Визой времени» в рубчатом, темном и крепком футляре с размашистым рукописным заголовком.
Я, признаться, испытал потрясение. Я с детства любил книги и видывал хорошие, любовно укомплектованные библиотеки. Например, собрание автора «Всадников» и пьесы «Дочь прокурора» украинского прозаика и драматурга Юрия Яновского, высокого, красивого седого человека. Его жена актриса Тамара Жевченко, приятельница моей тетки, едва ли не каждые день обходила букинистические прилавки. После войны на маленьких развалах в Киеве можно было приобрести уникальные издания. Мне давал читать редкие вещи адвокат и по совместительству заведующий литературной частью театра русской драмы имени Леси Украинки при главном режиссере Константине Павловиче Хохлове неутомимый коллекционер Марсель Павлович Городисский. Хохлову мы обязаны появлением в БДТ Олега Борисова. Я пользовался доверием режиссера Нелли Влада, который тоже, где только мог, покупал все, что только можно. Словом, я был более или менее подготовленным юношей и научился отличать серьезные и ценные произведения типографского искусства от всякой современной белиберды. Чем внимательней я вглядывался в то, что стояло на полках, тем сильнее я чувствовал себя ошеломленным.
Вот здорово! Бедняцкая одежда Жени, весь ее скромный облик не предполагал наличия дома подобного богатства. Да я попал к книжному миллионеру Корейко! А я ожидал, что хвастовство Жени выльется в десяток затрепанных и всем известных эренбургов. Вот как Женя писала, отвечая через много лет на мой вопрос о судьбе библиотеки: «Тома, которые тебя поразили, были стоящие, случайно уцелевшие от старого (доарестного) собрания отца. Вкус к литературе у него был». Могу легко представить, из чего состояло доарестное собрание мнимого Олега Жакова.
Каково же было само собрание, которым владел отец Жени? Если уцелевшая часть производила столь внушительное впечатление… Позже я с ней, с уцелевшей после обысков и изъятий частью, познакомился ближе. Она — эта уцелевшая часть — многое объяснила в истории жизни отца Жени, но далеко не все. Пометки у любимых авторов кое-что добавляли. Первое потрясение от увиденного не улетучилось и спустя пятьдесят лет. Зрение у меня острое, и я приметил, что в самом конце полки стоял выпуск «Романа-газеты», тонкий, потрепанный, с мало кому ведомым романом Эренбурга «Что человеку надо» о гражданской войне в Испании. Его изымали из библиотек еще перед войной с Германией. Я решил, что хозяин крольчатника как-то связан с событиями, разыгравшимися на Пиренейском полуострове. Сталин беспощадно расправлялся с не угодными ему интербригадовцами.