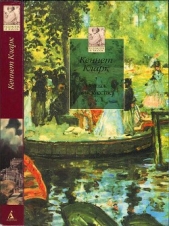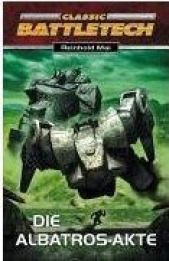Коро-коро Сделано в Хиппонии

Коро-коро Сделано в Хиппонии читать книгу онлайн
«Коро-коро» — японское выражение, означающее «кубарем» или «кувырком». Или «флюгер на ветру», как толкует его Дмитрий Коваленин — филолог-японист, переводчик, журналист и писатель, проживший в Японии 12 лет и впервые познакомивший нас со сновидениями «японского оле-лукойе» — волшебника Харуки Мураками.
«Коро-коро» за несколько веков сократилось в «кокоро» — ключевое понятие японской культуры. Символ той «загадочной японской души», которую пытался постичь в своей нетленной «Ветке сакуры» еще Японист № 1 Всеволод Овчинников. С тех пор прошло 35 лет, и теперь Коваленин пытается сделать это снова.
Сборник короткой прозы Дмитрия Коваленина не умещается в рамки привычных жанров. Здесь вы найдете и детективные сюжеты, и лирические зарисовки, и зажигательный рок-н-ролл, и безжалостный стеб, и нежное признание в любви.
Эта книга о Японии и японцах, об их жизни, литературе и еде, о русских в «Стране Восходящей Иены», о мифах вокруг «загадочного Ориента» в наших головах — и о нас с вами, народе, застрявшем между Востоком и Западом. Крутится загадочное «коро-коро» — и мы въезжаем в сегодняшнюю Японию, не выезжая при этом из России.
Человек, породивший «русского» Мураками. Волшебник-переводчик Дмитрий Коваленин.
«Книжная витрина»
Коваленин создал русского Мураками и теперь имеет полное право писать о нем так, как сочтет нужным.
«Русский журнал»
— Как ты называешь жанр, в котором пишешь?
— Я в шутку называю его «Коро-коро».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Разве ты не чувствуешь, как Он смотрит на нас?
— Все мы как-нибудь… смотрим.
— Ты не чувствуешь. Когда он смотрит вот так на меня, я становлюсь чем-то… голым. И тогда дико хочется, чтобы он меня съел.
Поднимая фонтаны песчинок, человек со мной рядом вскакивает резко на ноги. Песок, песок — на лице моем, на губах. Ветер с моря, налетев неожиданно, слизывает — и, ожегшись, выплевывает в стылое небо наше одно на двоих апельсиновое полотенце. Оба молча следим, как оно, кувыркаясь в отчаянном танце, отлетает все дальше и дальше — к черной гальке у самой воды.
— И знаешь… Это почему-то совсем не стра-а-ашно-о-о-о-о!!!
Но у моря нет эха.
Запрокинув голову, раскинув в стороны руки, он со всех ног бежит прочь от меня вдоль по худенькой кромке берега, срывается с нее уже где-то на горизонте — и вливается крохотной каплей в седой Океан.
Я снова один на остывшем под вечер песке.
Фотокамера у моих ног. Брызги с его мокрых волос — на черном глазке объектива. Не хочется вытирать объектив, отчего-то я знаю: больше нет нужды в фотоснимках.
Слушаю.
Незнакомая тупая боль подступает из легких к горлу. Ноет, саднит изнутри своей невостребованностью отмерший некогда орган.
Человек на песке со мной рядом: озябший, и губы синие.
— Надень же хоть что-нибудь.
— Нет. Теперь все равно. Доплыть бы туда, где не страшно — и тогда будет вовсе не холодно…
Человек на песке со мной рядом прижимается крепче ко мне. Кладет мокрую голову мне на плечо.
— Говори мне о чем-нибудь…
Виски его — вкуса соли.
Глажу медленно мокрые волосы, и через них, нараспев — прямо в ухо:
— В ледяных океанских пучинах, где не видно ни зги…
Человек на моем плече закрывает глаза.
— …Даже мелкий безмозглый планктон чует тебя безошибочно. Флюоресцентной своей оравой кидается он к тебе хоть за тысячу миль. Вслед за ним — а то и просто погреться — подгребают мордовороты-киты. И прочая живность как-то сразу бросает дела свои и делишки, если вдруг проплывает поблизости. И вскоре сваливается в тебя все до кучи…
В горле странно першит. Я наспех откашливаюсь — только бы он дослушал.
— …Там, где ты, всем находится время и место. Рыбам и растениям. Животным и людям. Так было тысячелетиями… Так будет, наверное, вечно.
— Ну а ты?
Глаза его, серо-зеленые, как и небо над ними, глядят на меня в упор. Молча жду, когда они закроются снова. И только тогда улыбаюсь:
— И лишь я никак не могу распознать, где же ты… Ласковое. Исцеляющее все продрогшие, стылые жизни. Зовущее по ночам — мое теплое течение Куросио…
Вновь — распахнутые глаза:
— Нам еще не пора?
— Да, наверное… Собирайся?
— Я сейчас… Я последний разок!
Медленно-медленно человек на песке со мной рядом поднимается на ноги.
Он встает и уходит.
В зовущие чайками волны.
В остывающее от солнца небо.
Все дальше и дальше от берега.
Могучая черная гладь растворяет в себе, как кофе — беспомощный сахар. Вот уж нет его по колени. Вот растаял наполовину. Вот — одна голова…
И потом уже только пена.
Волны. Зовущие за собой и исчезающие, чтобы снова вернуться.
Две сигареты — это пятнадцать минут. Еще три — сорок пять.
Так уносишь ты, теплое Куросио, всех, кому еще есть чем слышать тебя.
Его книгу заносит песком, и страницы шелестят для меня все слабее.
Мои ступни на теплом асфальте по пути к остановке автобуса. Правая моя ладонь — в левой шлепанцы — сжав, массирует горло. Я все пытаюсь унять эту боль — так знакомую всякому, у кого хоть когда-нибудь резались жабры.
Хочешь, я расскажу тебе
Моему нерожденному сыну
Я говорю тебе: «Пошли, сходим в детство?»
«Пойдем», — отвечаешь ты и тянешь ладошку к моей руке.
Кто еще мог бы мне так ответить? Люди заняты бесконечной Вселенской Стиркой, они кричат мне из ванных: «Как настроение?!..» Я смеюсь — нет, мне и правда забавно: что я им, туда кричать буду? «А ты крикни, жалко, что ли?..» И я уезжаю от них.
И тогда я говорю тебе, тихо так: а пошли, сходим в детство? «Пойдем», — отвечаешь ты мне. Так, будто ждал меня все это время.
Это очень, очень важно для меня — знать, что ты ждешь. Я тогда становлюсь совсем бесстрашным и даже не верю, что вообще умру когда-нибудь от чего бы то ни было.
Слишком уж все там меняется… Будь вечно таким же — ждущим меня. Даже если я пропадаю надолго.
Там, у них, бывает очень по-разному. Я сейчас кое-что расскажу тебе… Вот послушай.
Рот нужен людям для еды. Во всех остальных применениях он начинает жить несвойственной ему жизнью: все составные части его приходят в движение, совершая Работу По Утвержденью Порядка. Если вдруг ртов становится больше, чем один, уши отмирают, как листья у осенних деревьев, и тогда наступает зима. И если чьи-то глаза не впадают в спячку от холода, то прямо на морозе у тебя могут отнять всю одежду — «Ах, вы вконец перепачкались!» — и затеять Вселенскую Стирку, крича тебе из теплой ванной: «Ну, как настроение?..» Слова замерзают, не долетев до порога.
Если глаза не в спячке — то они в ванной.
Иногда люди совершают Работу По Утвержденью Порядка. Это случается с ними, когда они не помнят, что их кто-нибудь ждет. Тогда они, бедняжки, в растерянности начинают думать, что Все Меняется. А поскольку Все — это ОЧЕНЬ много, они не понимают, что со Всем этим делать, и с перепугу наводят Порядок вокруг — но так, чтоб только самим под него не попасть.
Тех, кому это удается, называют Сильными Людьми. Они действительно забывают, что их кто-то ждет! Смешные они, люди…
Картошку, чтобы долго-долго варить на плите, людям обязательно нужно чистить. А еще раньше — непременно купить ее на базаре.
А вот там-то и вынимают кошельки!
Поэтому лучший на свете напиток — кофе. Если долго пить его из глиняных чашек, начинаешь жить по ночам. А ночью-то базары и не работают!
Когда людям начинает казаться, что им не с кем пойти сходить в детство, они посещают Храм. Тогда вместо того, другого, к ним приходит чувство кого-то Третьего, с которым-то все это и можно.
Детям это не нужно.
С людьми можно играть в Очередь. Они очень доверчивы, люди.
Нужно, чтобы один ждал другого, другой третьего, и так далее. Построить их всех, упереть глазами в затылки друг другу — и пусть себе думают, что все они ждут троллейбуса.
Когда люди натворяют слишком много Порядка собственным ртом, они, испугавшись, принимаются разрушать все обратно. Тогда они закрывают рот и пишут картины маслом, печатают на пишущих машинках и раздаривают хризантемы, оставляя друг в друге себя.
Им действительно становится легче.
Иногда люди сомневаются, есть ли они. Кидаются к другим и начинают это проверять. «Есть, есть, — успокаивают их. — Да вот же. Вот и вот».
Им даже дарят их самих иногда. Как цветы.
Тогда они очень обижаются.
Даже отдавливая себе бока в троллейбусной толчее, люди упрямо продолжают верить, что они куда-нибудь движутся.
Люди очень любят бояться, что живут мало жизни. Все то, зачем вообще Все, они, недолго думая, называют банальностью — и допридумывают что-нибудь позаковыристей, о чем потом нужно думать долго и специально.
От этого они живут еще меньше жизни.
Надвигавшись в троллейбусах, под вечер люди уходят к себе домой, запираются на замок, отключают телефон и принимаются печатать на машинках и писать картины маслом. Почему-то они называют это Покоем.