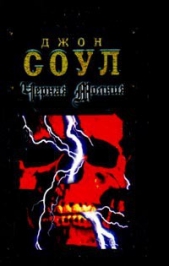Черная молния вечности (сборник)
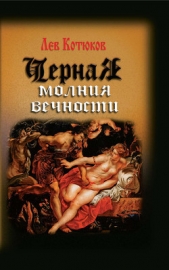
Черная молния вечности (сборник) читать книгу онлайн
Автор книги «Черная молния вечности», поэт и прозаик Лев Котюков, ныне один из самых известных мастеров отчего слова. Его многогранное творчество получило заслуженное признание в России, в ближнем и дальнем зарубежье, он – лауреат самых престижных международных и всероссийских литературных премий. Повествования «Демоны и бесы Николая Рубцова» и «Сны последних времен», составившие основной корпус книги, – уникальные произведения, не имеющие аналогов в русской словесности. Книга «Черная молния вечности» не рассчитана на массового читателя, эта книга – для избранных. Но для тех, кто прочитает ее до конца, она без преувеличений станет истинным открытием.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А происходило наше непрочтение в 1966 году, или чуть позже. И Набоков был жив, здоров, исправно писал, и книги его исправно выходили на Западе, – и, наверное, весьма и весьма бы удивился, проведай, что в пыльной хрущобной Москве, в бедном общежитском застолье не всуе поминается его имя. А может, и порадовался бы без удивления – и, как знать, глядишь, и подвигся бы на посещение мрачной родины, а может, и на последнее возвращение.
И напрасно некий удачливый подражатель Набокова, нынешний литературный воротила, однажды уверял меня, что до массового растиражирования своих писательских опытов ведущими советскими издательствами не был знаком с прозой великого скитальца и даже был притесняем и гоним. Гоним, наверное, для массового издания в «Советском писателе» и «Лениздате» за непрочтение Набокова. Всем бы такое притеснение и гонение!
Да и совершенно не верится, что такой просвященный и породистый человек, как Андрей Битов, не имел доступа к запретным текстам. Если ж и у нас, сиволапых, имя Набокова было на слуху, то ему сам Бог повелел.
И можно было бы закончить на сем эпизод с воспоминаниями о непрочитанном Набокове, если бы не случайное прочтение грациозного эссе неувядаемой Беллы Ахмадулиной под небезынтересным заглавием «Робкий путь к Набокову».
Ох, как тяжко выдохнуть: поэт – это не женщина, а женщина – это не поэт!
Но, в порядке исключения, я к Ахмадулиной относился и отношусь очень хорошо, почти влюбленно. Но радуюсь, что она ко мне никак не относится, и надеюсь на свое дальнейшее пребывание в неизвестности для этой высокоутвержденной и высокопоставленной дамы.
Но уж больно резанула меня такая продыхновенная фразочка:
«…Новехонькая полночь явилась и миновала – и самое время оказаться в Париже шестьдесят пятого, по-моему, года. Ни за что не быть бы мне там, если бы не настойчивое поручительство Твардовского, всегда милостивого ко мне. (Знал, знал царедворный пан Твардовский, к кому надо быть милостивым!). Его спрашивали о „Новом мире“, Суркова – об арестованном Синявском и Даниэле, меня – о московской погоде и о Булате Окуджаве, Вознесенского окружал яркий успех.…Синявский и Даниэль обретались – сказано где, Горбаневская еще не выходила с детьми к Лобному месту, я потягивала алое вино».
Впечатляющая картина возникает, очень впечатляющая. Почему-то не упомянут отбывающий ссылку Иосиф Бродский, но, сами понимаете, – Париж, «яркий успех, алое вино».
М-да, лихо гоняли по заморским далям страдальцев-шестидесятников злобные коммунистические партвласти.
Далее поэтесса описывает встречу с писательницей русского зарубежья, эмигранткой первой волны Аллой Головиной. Ох, уж это цитирование! Как оно утомительно, да и неинтересно, в конце концов! Но продолжу с тяжким сердцем:
«„А вы, – неуверенно, боясь задеть меня, спросила Алла Сергеевна, – знаете ли вы Набокова, о Набокове? Ведь он, кажется, запрещен в России?“
Этот экзамен дался мне несколько легче: я уже имела начальные основания стать пронзенной бабочкой в коллекции обожающих жертв и гордо сносить избранническую участь. За это перед прощанием Алла Сергеевна подарила мне дорогую для нее „Весну в Фиальте“. Прежде я не читала этой книги, не держала ее в руках, пограничный досмотр мной не интересовался, и долго светила мне эта запретная фиалковская „Весна“ в суровых сумерках московских зим».
Счастливый человек Белла Ахмадулина! Почему-то не интересовался ею пограничный досмотр, – и запретный Набоков спокойно проследовал в СССР, дабы скрашивать угрюмые сумерки Москвы. Воистину счастливый человек Ахмадулина Белла! Хоть ей светило что-то…
Эх, жизнь наша непутевая! И почему саднит душу гениальное: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?!» Но кому-то всё-таки светит и светит.
А вот другим и встарь, и ныне, ничего не дано, кроме света звезды полей. Других упорно отрубали от русской культуры, выдворяя из стен жалкого общежития Литинститута не в Париж, а в бездомные, смертельные морозные ночи России. И не какие-то мифические масоны-мусюны сие творили, а властолюбивые русаки со знаком ячества типа Твардовского, Суркова и Софронова с Прокофьевым.
По их благорасположению надувались мыльные пузыри славы Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы и прочих второстепенных литераторов. Это они стояли у истоков подмен, не страшась пламени адского в государственной мерзости атеизма и чужебесия.
Ахмадулина наверняка не ведала, чьей разменной картой она была в сей страшной игре – и бессознательно жила чужой игрой, как своей жизнью.
А впрочем?! Да нет, не ведала. И вообще – от красивой женщины не надо ничего требовать, кроме красоты. Даже талантливых стихов. Красивая женщина и без стихов есть истинная поэзия. И плюньте в лицо тупице, с пафосом изрекающему тысячелетнюю глупость:
«…Сократ мне друг, но истина дороже!»
Не может быть дороже истинного друга и человека никакая самая высокая истина. И бессмертно великое молчание Христа на безнадежный вопрос Пилата:«Что есть истина?»
О, полночные танцплощадки моей юности! О, щемящее, медленно-жгучее танго из таинственных глубин Останкинского парка! О, как неудержимо влекло туда из душного общежития!
В зеленую поющую тьму, в ревнивое световое кружение.
Вперед! Без оглядки! И ничего не жаль – ни разорванных рубах, ни разбитых губ!..
И ничего не страшно, и плевать на подлые ножи, и на свистки милицейские!
К чертям – весенние заботы студенческие! К чертям – черновики с неверными строчками!
Жизнь – это любовь и музыка! Вперед, в вечность! А время пусть подождет!
И въявь вижу грустную улыбку Рубцова. Он отстает от нас, сворачивает к пивной возле платформы Останкино – и, прежде чем исчезнуть в ее смрадных недрах, кричит что-то ободряющее вослед.А с танцплощадки навстречу нам летит в теплую тьму мелодия и слова:
«Под небом Парижа, под небом Парижа в вечерний час!..»
Увидеть Париж – и умереть! Какой красивый слоган. Увидели, но не умерли.
А Рубцову оставалось всего пять лет на всё про всё на этом свете. Но никто, кроме него, не ведал об этом. Но, быть может, сам Рубцов отказывался верить своим тяжким предчувствиям, ведь еще не было написано: «Я умру в крещенские морозы…».Ведая неизбежное, он силился преодолеть свое яснознание, ибо оно владело им, но не принадлежало ему. Преодолеть прежде всего стихами. И не об этом ли замечательно и грустно он сказал:
И всей душой, которую не жаль
Всю утопить в таинственном и милом,
Овладевает лунная печаль,
Как лунный свет овладевает миром.
А иногда, наперекор всему, браво, игриво и бесшабашно прогнозировал свое грядущее:
Стукнул по карману – не звенит!
Стукнул по другому – не слыхать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать.
Одни увидели Париж – и не умерли, и весь свет исколесили и одурачили, а Рубцов погиб, стал знаменит, но так и не отдохнул ни в Ялте, ни в иных уютных местах в краткое время своего земного бытия перед полным слиянием с милосердной вечностью и немилосердным бессмертием.
О, Боже, Боже, почему душа иногда отказывается сама себе верить?! Почему я упорно не могу понять, что давным-давно нет на свете Николая Рубцова, что навеки утолились его страсти земные и жажда жизни земной, – и нет ему нужды ни в Ялте, ни в Набокове?..
Эх, почему бы в тот тихий, летний вечер не оказаться бы Белле Ахмадулиной в нашей шумной компании, в нашем молодом общежитском застолье!
Ей Богу, не разочаровалась бы! Враз, без сожаления, забыла бы и Париж, и «яркий успех» дурилы Вознесенского, и литгенералов-старперов, и чужое алое вино. Куда ему до наших родимых перцовки и вермута! А под гитару и песни Рубцова в нашем молодом кругу враз развеялись бы мелким дымом все горести и болести доверчивой, красивой женщины. Глядишь – и запретный Набоков, «Весна в Фиальте», аж из Парижа оказался бы у нас и был бы непременно прочитан.
Но если бы да кабы!.. Кому рога, а кому и гробы… И еще почему-то упорно лезет на ум совсем дурацкая присказка: «Нечего менять шило на мыло, коль стоишь по уши в дерьме».