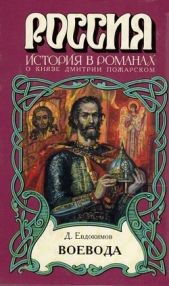Русская жизнь. Гоголь (апрель 2009)

Русская жизнь. Гоголь (апрель 2009) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все отношения с Италией Древней Руси могут быть исчерпаны «Песней венецейского гостя» из оперы «Садко», так как итальянцы на Русь приезжали, а русские в Италии были только в качестве послов, которым строго-настрого было запрещено общаться самовольно с кем бы то ни было, или в качестве рабов, так что в Венеции существует даже Riva degli Schiavoni, набережная рабов, или славян, так как schiavo - раб - имеет общее происхождение со slavo - славянин. Послы возвращались, но ничего путного не рассказывали, а рабы и не возвращались, ибо итальянское рабство было, поди, слаще родного крепостного права. Образ Италии как некой особой страны, отличной от всех остальных, понадобился России только тогда, когда она почувствовала необходимость стать частью Европы. Точнее, не Россия почувствовала, а почувствовал ее владыка, и послал в Италию сподвижника, Петра Андреевича Толстого, умнейшую голову своего времени, и начертал Петр Андреевич замечательные записки об Италии, подробные и смачные. Пишет он, в частности, следующее: «В той же церкви у стен поделаны из розных же мраморов гробы, в которых лежать будут тела древних флоренских великих князей. Между теми сделан гроб, где лежать по смерти телу нынешняго грандуки, то есть великого князя флоренского. Те гробы поделаны такою преузорочною работою, что уму человеческому непостижно. И над теми гробами поставлены персоны вышеименнованных древних флоренских князей, также и нынешняго великаго князя флоренского персона над ево гробом стоит. А высечены те их все персоны из алебастру изрядным мастерством и с такими фигурами, которых подробну и описать невозможно». Это Петр Андреевич о посещении Сан Лоренцо во Флоренции и микеланджеловой гробницы Медичи.
Не было у нас тогда еще органа, с помощью которого можно было бы создать русскую Италию. В XVIII веке, во время интенсивного поглощения европейских ценностей, отношение России к Италии было по-детски простодушным. Растреллиевское барокко, занесенное снегом, и мерзнущие под петербургским дождем венецианские богини Летнего сада сразу вошли в русский пейзаж, но не были никем осмыслены. Картин натащили, и италиянских кастратов с девками, чтобы голосили как положено, и в Италию уже поехали, и выблядков из Академии художеств в Италию послали, поелику выблядки талантливее детей законных и к художествам зело способны. Но все это была Италия понахватанная у других, и вот уже княгиня Дашкова в Италию едет, и все описывает правильно, и знает, кто и где Рафаэль, и Гвидо Рени, и Каналетто, и все разумно оценивает, и смотреть умеет, и описывать, но описывает по-французски, и мало чем ее записки отличаются от записок образованной француженки, у которой за спиной Франциск I с Леонардо, и школа Фонтенбло, и Челлини, и Россо, и Приматиччо.
Осмысление пришло позже, но опытности в общении не хватало, а Италия была очень нужна, просто необходима каждому уважающему себя русскому, претендующему на просвещенность. Что же делать? Надо ее откуда-то брать, и самая ближняя и самая лучшая Италия была у немцев, готовая, прекрасно отделанная. Вот мы и позаимствовали ее у них. Со времени Жуковского, нашего главного европейца, появилось бесконечное количество переводов гетевских строк «Kеnnst du das Land…» («Ты знаешь край…»), так что это стихотворение можно назвать русским хитом начала девятнадцатого века. Русские оказались очень восприимчивыми, быстро усвоили Sehnsucht nach Italie, и это состояние стало характернейшим свойством русской души. Опираясь на Sehnsucht и русские ее переводы, Пушкину даже удалось предвосхитить прустовское отношение к Италии, написав о ней чудесные строки, так ни разу там и не побывав. В частности, стихотворение «Людмила», в котором Пушкин вопрошает: «Кто знает край, где небо блещет Неизъяснимой синевой, Где море теплою волной Вокруг развалин тихо плещет; Где вечный лавр и кипарис На воле гордо разрослись; Где пел Торквато величавый; Где и теперь во мгле ночной Адриатической волной Повторены его октавы; Где Рафаэль живописал; Где в наши дни резец Кановы Послушный мрамор оживлял, И Байрон, мученик суровый, Страдал, любил и проклинал?» - кто ж его не знает, все знают, он уже оскоминой на зубах навяз. Рафаэль, Канова, Байрон и три миллиона тонн цитрусовых в год. Kеnnst du das Land? Ja, ja, ich kenne… строчка из Вильгельма Майстера выведена эпиграфом к Людмиле, но как какая-то сумасшедшинка вторит им припевом куплет: «По клюкву, по клюкву, по ягоду, по клюкву», - и впервые в русской поэзии начинают звучать новые, отличные от немецких, интонации. Русская песенка среди пейзажа «Италии златой» придает этой вымышленной стране оттенок безумия. Италия, клюква, Людмила… умильность, умиление, и «Солнце склоняется за гору св. Марии; безоблачное небо накидывается горящим светом, и, согретый теплым чувством о Боге, вместе с несчастными любопытными атеистами иду внимать пению дев непорочных, горем вынужденных отрешиться от света. Их голос ублажает мое сердце, я сливаюсь с ними в чувствах: горесть составляет союз сердец человеческих, даже самых гордых она соединяет. Я не могу пересказать вам, сколько блаженных мыслей рождает во мне прекраснейшее соло какой-либо из сестер сих: из меня тогда все вы можете сделать.
Я живу на горе; огромность и небрежность здешних дворцов есть принадлежность. Войдя с улицы Сикста, вы подымаетесь во второй этаж; завернув налево в сад, вы почувствуете аромат, увидите тучныя, цветущия розы, и под виноградными кистями пройдете ко мне в мастерскую, а далее - в спальню или комнату: и то, и другое будет больше нашей бывшей залы. В мастерской на главном окне стоит ширма в полтора стекла, чтобы закрыть ярко-зеленый цвет от миндаля, фиг, орехов, яблонь и от обвивающей виноградной лозы с розанами, составляющей крышу входа моего.
Во время отсутствия скорби о доме моем родительском, я бываю до такой степени восхищен, что не бываю в состоянии ничего делать: как же тут не согласиться с итальянским бездействием, которое мы привыкли называть ленью?
Из окон с одной стороны моей унылой спальни виден другой сад, нижний; дорожки все имеют кровлею виноградные кисти, а в середине их - или чудные цветы, или померанцы, апельсины, груши и т. д. Сзади сада живописной рукой выстроены дома: то угол карниза выдается из чьей-либо мастерской, то сушило, арками красующееся, то бельведер, высоко поднимающийся«. Это из римского письма А. А. Иванова 1831 года.
Описание совершенно гоголевское. Русская душа слишком глубоко переняла немецкую Sehnsucht и уже плакать готова с благочестивыми сестрами, и молиться, и биться над картиной всех времен и романом всех народов, Иванов и Гоголь становятся пленниками Рима, и только о России там и думают, и вот уже: «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Что хотят они от меня, бедного? Что могу я дать им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем бедном дитятке!…» Пережив и осмыслив встречу с Италией, русская душа угодила в сумасшедший дом.
Вот и все. С одной стороны море, с другой Италия, не лейте мне на голову холодную воду. Потом будет еще много чего, и Санин из «Вешних вод» предпочтет всю такую невозможную Полозову сладчайшей Джемме, и Анна Каренина с Вронским снимут палаццо с плафоном Тинторетто, Дягилева, Стравинского и Бродского похоронят в Венеции, Ленин с Горьким будут играть в шахматы на Капри, Муратов напишет об Италии лучшую книгу на русском языке, господин из Сан-Франциско в трюме международного лайнера лежать будет бревно бревном. Но ничего решительно в русской Италии, оформленной Гоголем, это уже не изменит, только прибавит. Так что и Сквозник-Дмухановский со своим Берлускони и правильным пониманием значения России для Европы, и Хлестаков со своим снобизмом, заимствованным из статеек в GQ и Men’s Health о сардинских курортах, и Чичиков со своим безупречным вкусом, и Манилов со своими грезами, и Акакий Акакиевич со своей человечностью, все они направляются в страну, где «звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют», хотя они сами об этом и не подозревают, и у них даже может быть свое какое-то собственное мнение.