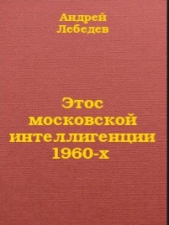Встречи на рю Данкерк

Встречи на рю Данкерк читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В особенно неприятных ситуациях я часто находил приют у моего доброго знакомого, Владимира Павловича Прутского, в Вострякове, близ Москвы. Он жил в небольшом доме с женой и матерью, Клавдией Петровной (между прочим, ее первым мужем был известный в свое время литературный критик Алексей Яковлевич Цинговатов, состоявший в переписке с Блоком). Славные и скромные русские люди, сохранившие доброту и достоинство в условиях, которые, казалось бы, исключали и то и другое. В «Портрете в сумерках» я частично подарил их дом и сад моему печальному персонажу, Алексею Лексу.
…Представьте себе покойную проселочную дорогу, которая прихотливо меняет свою длину в зависимости от времени года, — бесконечная в изморозь и вьюгу, кратчайшая в майский благоуханный вечер. По обеим сторонам видны избы (летом они называются дачами, хотя они больше напоминают неказистые амбары). Огороды, яблоневые рощицы, вишневые сады и островки смешанного леса смягчают их непривлекательность. Беззубые частоколы (многие колья исчезли неведомо куда) и заборы безнадежного серого цвета окружают их. Перед некоторыми домами возносятся дубы (как перед домом Владимира Павловича), не менее величавые, чем тот, под которым вершил суд святой Людовик. На полпути к дому — единственный продовольственный магазин поселка, предлагавший покупателям болгарский горох в нелепо гигантских консервных банках. Иных товаров не было. Единственная примечательность этого селения — пруд, тинистый и поэтический, как в романах Тургенева.
Вы приближаетесь к дому, наполовину скрытому дубом. Он прекрасен и полезен, поскольку является лучшей рекламой для столичных жителей в поисках дач. Калитка давно грозит слететь с петель, но В. П. никак не может приобрести нужную металлическую деталь, чтобы укрепить ее. Вы поднимаетесь по пяти ступенькам и оказываетесь в просторной комнате, в которой володеет и княжит идолище дома — печь, облицованная, как шутит В. П., старорежимным кафелем. По этой причине зимой она стойко выносит почти мартеновскую температуру. Советский кафель давно превратился бы в печеный картофель. У хозяина дома отношение к печи как к старой, капризной, но почтенной особе. Иногда кажется, что ему хотелось бы обратиться к ней на «вы». Зимой, раз в месяц, грузовик доставляет драгоценный груз — уголь, невероятно дорогостоящий и, вероятно, ворованный. Эта печь — не только источник тепла, но и участливый свидетель дружеских бесед вдали от лютого ока государства и ледяных февральских ветров.
Дверь слева ведет в хозяйские покои, справа — в крохотную комнатку, которая привела бы в восхищение спартанца (9 кв. м). Письменный стол, не старинный, но попросту безнадежно состарившийся. Ему пришлось потесниться, чтобы вместить кровать и стул. Иной мебели не предполагается. Ближайший колодец находится в двухстах метрах, и в зимний солнечный день его ледяная утроба напоминает радужный короб. Ведущая к нему тропинка глаже конькобежной трассы. Что касается туалетных удобств, то они находятся в самой дискретной части сада и способны привести в отчаяние даже нетребовательного алеута. Все же по сравнению с «углом, который сдается одиноким» (такова была обычная формула редких объявлений, и площадь этого угла вмещала разве что угол, в который можно было поставить шалуна школьника), комнатка в доме В. П. была сущим раем. Оплата этого рая — более чем дружеская, 20 рублей в месяц.
— Слово «рай» здесь все-таки следовало бы взять в кавычки. Культ честной бедности прекрасен на бумаге, но в жизни отнимает гигантское количество впустую потраченных времени и сил…
— У некоторых моих московских приятелей положение было не многим лучше. Большинство из них тогда обитало в подвалах, но поскольку в эпоху торжествующего социализма не подобало жить в помещении, предназначенном для хранения угля, то их именовали полуподвальными. В таком подполье жили, например, художники Игорь Куклес и Дмитрий Плавинский. Поэт Володя Петухов нелегально провел несколько свирепых зимних месяцев в теплой котельной, которую он преобразил в свой рабочий кабинет — с небольшим столиком, без электричества, но с керосиновой лампой. К счастью для Володи, рабочий котельной был пьянчуга и за небольшую взятку позволил моему барду провести зиму в тепле. Летом бездомный Петухов нередко ночевал на Казанском вокзале (подобный опыт городского скитальца живо описал в своей книге «Я здесь» Дмитрий Бобышев) и жаловался на милиционеров, которые сгоняли его с уютной скамьи и выставляли на площадь трех вокзалов.
«В то время оное былое», как говорил Пушкин, я жил в маргинальном мире, его обитателями были подпольные художники, поэты-инакомыслы — я, кстати, никогда больше в жизни не встречал такого удивительного количества поэтов, как в Москве шестидесятых годов. Прозаики, писавшие о половых причудах. Религиозные мыслители, страшившиеся советского суда и ждавшие Последнего суда. Часто пьяненькие, зачастую нищие — но почти всегда свободные, насколько можно было быть свободным в морозном рабстве тоталитарного государства. Презиравшие печатный лист. Не двоившиеся и не троившиеся, как большинство советских обладателей дипломов не слишком высшего образования.
Я не думаю, что маргинальность и гениальность непременно рифмуются, но убежден, что будущий Нестор этой эпохи отметит, может быть не без удивления, одну из загадок советской жизни: эти маргиналы создали то, что можно назвать достойным русским искусством того времени, тогда как вся советская продукция, литературная и живописная, превратилась в то, чем была всегда, — комическое и маргинальное явление. Именно такие поэты, как Бобышев, Бродский, Красовицкий (в алфавитном порядке), достигли олимпа русской поэзии — то есть те, которые не напечатали ни одной книги в мезозойский период советской эпохи.
Иногда я вижу на аукционах в парижском Друо холсты советских мазил, которые продаются за оскорбительно смешную сумму и обычно не находят покупателей. А бывшие маргиналы, как, например, Дмитрий Плавинский, Василий Ситников, Борис Свешников, стали всемирно прославленными артистами. Если правда, как иногда нас уверяют журналисты, что от прежней советской жизни, в сущности весьма страшной, не осталось ни следа, то надо признаться, что в искусстве это подполье оказалось единственной реальностью. Фатальная правота искусства безжалостно развеяла фата-моргану социалистических псевдореализмов.
— В обеих повестях описывается зимняя Москва. (При чтении «Странной истории» естественно вспоминается снег в «Записках из подполья».) Московский снег — то тяжелый, холодный, вьюжный, то, наоборот, как в финале «Приемного отделения», утишающий душевные волнения, помогающий забыться, уйти на время от житейских невзгод.
— Метеорология для писателя играет не меньшую роль, чем геология для географа. В те времена о всеобщем потеплении, которое грозит нам всеобщим потоплением, еще не говорилось. Зимы были бесчеловечно суровы. Снежные бури, бураны, снегопады, ураганы, вьюги, метели начинались в октябре и иногда длились до конца апреля. Мечты о теплой гоголевской шинели оказывались столь же тщетными, что и у бедного Акакия Акакиевича. В Москве январскую температуру было переносить легче, но для жителей столичного предместья полярный холод и свирепый норд-ост составляли серьезное жизненное испытание. В Вострякове, например, зима собирала обильную смертоносную жатву — каждый год не менее десяти человек замерзали на этой проселочной дороге (разумеется, не без помощи алкоголя), в десяти минутах ходьбы от собственного дома. Отмороженные конечности, нос или уши казались столь же обычной неприятностью, как банальный кашель.
Помню, в декабре 1963 года, покинув Москву в ледяной, но относительно ясный вечер и оказавшись двадцать минут спустя в Вострякове, я увидел из окна вагона то, что можно было бы назвать генеральной репетицией брокенского бесчинства. Серебристо-серые тучи мчались — что там спортивные автомобильные болиды! — со скоростью света, все Божие творение исчезало в белом столпотворении. Безобразная музыка техно, которую я не переношу био-ло-ги-чес-ки, показалась бы моцартовской арией по сравнению с хохотом и грохотом полярного ветра. В этой инфернальной фуге не было диезов и отсутствовали бемоли — лишь голошенье, способное довести до умалишенья.