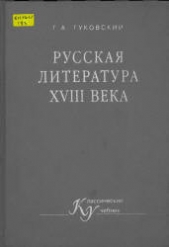Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям

Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям читать книгу онлайн
Предлагаемая вниманию читателей книга аналогов у нас не имеет. Это и терминологический словарь для тех, кто хотел бы изучить язык, на котором говорят с читателями современные писатели. И путеводитель – как по парадным залам, так и по чуланчикам сегодняшней словесности. И своего рода хрестоматия наиболее интересных и, как правило, спорящих между собою литературно-критических высказываний о прозе, поэзии, актуальной филологии наших дней. И это, наконец, не только свод знаний о литературе, но и попытка привести в единую систему эстетические взгляды и убеждения автора этой книги – известного филолога, критика, главного редактора журнала «Знамя».
Словарь «Жизнь по понятиям» – одна из двух частей авторского проекта «Русская литература сегодня».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такая авторская стратегия в период хрущевской «оттепели» была, разумеется, инновационной, хотя, разумеется, она и опиралась на давнюю традицию, представленную, с одной стороны, поэтами-импровизаторами (см. «Египетские ночи» Александра Пушкина) и чтецами-декламаторами XIX столетия, а с другой – такими равно репрезентативными поэтами Серебряного века, как Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Николай Агнивцев или Владимир Маяковский. Так что постепенное вытеснение «эстрадной» (в строгом смысле слова) поэзии с доминирующих позиций в 1970-1980-е годы не привело (да и не могло привести) к исчезновению самого этого типа взаимоотношений авторов с публикой. Не нуждается в доказательствах высокий эстрадный потенциал авторской песни и, в особенности, рок-поэзии, лидеры которой (Майк Науменко, Александр Башлачев, Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Константин Кинчев, Юрий Шевчук и др.) заняли в 1980-е годы то место в общественном сознании, которое ранее принадлежало, например, Е. Евтушенко или Б. Окуджаве. Эстрада, впоследствии поддержанная телевидением, дала известность поэтам-иронистам, если условно объединить этим понятием таких мало в чем остальном схожих авторов, как Игорь Губерман, Игорь Иртеньев, Владимир Вишневский или члены Ордена куртуазных маньеристов (Вадим Степанцов и др.). Правомерно, – напоминает Владимир Новиков, – говорить и о том, что в 1980-1990-е годы «была у нас еще и своего рода “филологическая эстрада”, представленная прежде всего концептуалистами, и в первую очередь – Приговым». С еще большим основанием эти слова можно отнести ко Льву Рубинштейну, чьи произведения несравненно интереснее в авторском концертном исполнении, чем при чтении глазами.
Тем не менее на протяжении последних пятнадцати-двадцати лет явления такого порядка воспринимались (и до сих пор воспринимаются) как либо сугубо индивидуальные, «штучные», либо – еще чаще – как маргинальные и, во всяком случае, не располагающие в представлении публики статусными характеристиками собственно поэзии, где подчеркнутый аутизм стал за это время и общим стилем, и признаком хорошего литературного тона (вкуса). Понятно и оправданно поэтому стремление ряда авторов нового поколения внетекстовыми инъекциями вновь возбудить потухший было интерес к стихам. Речь в данном случае идет, прежде всего, о таких сугубо эстрадных формах презентации поэтического слова, которые Данила Давыдов называет «новой песенностью» и «новой устностью», понимая под ними «поэзию, рассчитанную на эстрадное предъявление, иногда и с музыкальным или видеосопровождением». Первыми среди авторов, пытающихся вернуть поэзию на эстраду, обычно числят Псоя Короленко и Шиша Брянского. Или, например, чемпиона слэм-конкурсов Андрея Родионова, о котором Ян Шенкман говорит так: «Родионов исполняет стихи, пританцовывая и вскрикивая. Если бы он соревновался в чтении с Децлом, еще неизвестно, кто выиграл бы. Лично я голосовал бы за Родионова».
Массового успеха этот тип поэтической коммуникации пока не имеет. Зато он стопроцентно востребован в бесчисленных литературных салонах и клубах, где, – продолжим цитирование Яна Шенкмана, – «публика ожидает, что ее рассмешат или на худой конец удивят. ‹…› За отсутствием иронии сойдут и другие привлекающие внимание странности: мат, сленг, компьютерная терминология, гомосексуальные и наркотические сюжеты…»
Экстраполируя уже существующие и лишь намечающиеся тенденции, можно, вероятно, назвать два возможных направления для продолжения экспериментов с энергетическим потенциалом эстрады. Либо к шоу-бизнесу, хоть в версии Н. Агнивцева, хоть в версии телепередач уровня «Аншлага» и «Кривого зеркала». Либо к гражданской поэзии, протестного, скорее всего, характера, почти совсем не представленной, но безусловно ожидаемой на сегодняшнем рынке идей и инноваций.
См. АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ; АУТИЗМ И КОММУНИКАТИВНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ; ИМИДЖ В ЛИТЕРАТУРЕ; ИРОНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ; ИННОВАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ; НОВАЯ ПЕСЕННОСТЬ; СТРАТЕГИЯ АВТОРСКАЯ
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ, АПОКАЛИПТИКА, КАТАСТРОФИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ
Самым знаменитым носителем эсхатологического сознания в русской литературе, вне всякого сомнения, является странница Феклуша из пьесы Александра Островского «Гроза», которая, что ни дело, твердит: «Последние дни, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние».
Во всяком случае, именно эта фраза прежде всего вспоминается русскому читателю при встрече с произведениями, авторы которых представляют очередные несчастья, случившиеся либо с ними лично, либо с Россией, как начало Апокалипсиса, верный знак неминуемого и скорого конца света. Эталонной (и положившей начало влиятельной литературной традиции) здесь следует признать повесть Валентина Распутина «Прощание с Матерой» (1976), в которой, рассказывая о гибели крохотной островной деревушки в сибирской глубинке, автор, – по словам Аллы Большаковой, – «сопрягает судьбу уходящей в прошлое традиционной России с судьбой мира, бытовые, ментальные пласты – с философией русского космизма».
Прошло всего десять лет после публикации этой, безусловно, провидческой повести, и слова «прощание», «гибель», «крушение», «смерть» замелькали в названиях и в текстах книг, которыми многие писатели (прежде всего, принадлежащие к «почвеннической» ветви нашей словесности) откликнулись на горбачевскую перестройку и последовавшее за нею ельцинское реформирование России. «Три дня августовского путча 1991 года, – говорит, в частности, Гасан Гусейнов, – описаны целым рядом русских публицистов и философов как катаклизм планетарного масштаба – точкой, в которой сошлись для боя силы, вот уже два с половиной тысячелетия ведущие между собой войну. ‹…› Апокалиптика стала важнейшим литературным жанром русских писателей-почвенников, имперцев и примыкающих к ним либеральных в прошлом публицистов». Сложился даже особый тип апокалиптического романа, «генетическими чертами» которого, – как свидетельствует Дмитрий Быков, – «являются: угрюмый эсхатологизм, ожидание последних дней, бурчание по поводу повсеместного падения нравов, ужасные картины быта, наличие полуюродивого положительного героя – носителя морального, не испорченного разумом начала, – и отвращение к интеллигенции, продажной и давно ни на что не способной».
Эсхатологическими нотами, духом глубокого пессимизма, а зачастую и мизантропии пронизаны в литературе последней четверти ХХ века лирика Юрия Кузнецова и Татьяны Глушковой, поздняя проза Виктора Астафьева, романы Александра Проханова, Анатолия Афанасьева, Юрия Козлова, Александра Трапезникова, Сергея Сибирцева, философско-публицистические размышления Василия Белова, Виктора Розова, Игоря Шафаревича, трактующие демократическое обновление страны как трагическое поражение России в тайной Третьей (или Четвертой) мировой войне, как гибель особой российской цивилизации и начало конца всей христианской культуры. Этот декадансный, по своим основным характеристикам, тон был поддержан – из совсем других, казалось бы, литературных лагерей – писателями-метафизиками, прежде всего Анатолием Кимом, Олегом Павловым и Юрием Мамлеевым, а также многими бытописателями, фантастами, авторами криминальной прозы, в силу чего депрессивность стала восприниматься как стиль эпохи и норма миросозерцания, а чернуха – как эмблема всей российской культуры 1990-х годов.
Это десятилетие миновало, и нельзя не прислушаться к Андрею Дмитриеву, который, говоря о романах 2004 года, отмечает, что в нашей литературе «сменился тон повествования. Даже самые страшные сцены, самые чернушные подробности пишутся в тоне жизнеутверждающем. Какое-то самоуважение у людей появилось. Исчезло ощущение всеобщей катастрофы. Это не значит, что теперь у нас в стране все хорошо, но это означает, что сознание российского человека преодолело свой внутренний кризис. Музыка жизни пришла на смену музыке гибели».