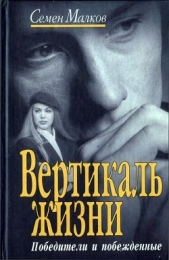Советская литература: Побежденные победители

Советская литература: Побежденные победители читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Например, в стремлении к совершенству, как и ради идеологической саморедактуры, Леонов спустя тридцать лет после создания его, как считается, лучшего романа Вор (1927) взялся исправить его. И испортил.
Мастер — первое слово, которое хочется сказать о Леонове. Мастер во всем, на все руки: «…Он умеет делать абажуры, столы, стулья, он лепит из глины портреты, он сделал себе великолепную зажигалку из меди, у него много станков, инструментов, и стоит только посмотреть, как он держит в руках какие-нибудь семена или ягоды, чтобы понять, что он — великий садовод… Это породистый и хорошо организованный человек, до странности лишенный доброты, но хороших кровей…» (Из дневника еще одного соседа, Чуковского).
И — неожиданное признание самого мастера: «Говорит, что не может написать и десятой доли того, что хотелось бы. „А вы думаете, почему я столько души вкладываю в теплицу, в зажигалки? Это торможение. Теплица — мой роман, зажигалка — рассказ“».
Торможение — как разновидность памятного: «…Я / себя / смирял, / становясь / на горло / собственной песне». Торможение — как образ жизни, который ты вынужденно принимаешь. Больше того — как то, что может не отпустить, даже когда ты решился в полной мере высказать то, «что хотелось бы». Горькое доказательство — роман Пирамида (другое название — Мироздание по Дымкову), писавшийся и отделывавшийся долгие-долгие годы и, хотя наконец опубликованный в 1994 году, но — парадокс? — именно по причине маниакальной взыскательности оставшийся в виде полуфабриката.
Задуманный как воплощение религиозных и философских воззрений автора, его отношений с православием и коммунизмом, его размышлений о тирании и порче национальной породы — и т. д., и т. п., - этот необъятный, бесконечный, так и не завершенный роман остался, увы, практически нечитабельным. Невоспринимаемым. Даже восторженный биограф Леонова вынужден заметить: «Текст романа требует комментированного научного издания». То есть, он — что угодно; возможно, шедевр, но только не чтение…
Итак, лесопользование. Вокруг этой «производственной» проблемы в Русском лесе ветвится сюжет и образуется конфликт: лесовода Вихрова, протестующего против неразумных вырубок леса, и «хищника» Грацианского. Конечно, что говорить: лес — еще и метафора; спор о лесе — спор об отношении к жизни, но, возможно, как раз сугубая овеществленность конфликта, его «народно-хозяйственная» материализация сыграли здесь коварную роль.
В конце концов, область чистой философии, даже влияющей на умы и на всю нашу жизнь, — та, где два антипода, отстаивающие свои личные правды, имеют возможность остаться вне подозрения в негодяйстве. Конфликт, предпочтенный Леоновым, такой возможности не дает, и вот Грацианский, чья философия в ином случае могла быть оспорена, отвергнута, да хоть бы и осрамлена, оставшись — все-таки — философией и ничем иным, тут сделан вредителем. Вдобавок, как обнаруживается в финале, имеющим давние связи с дореволюционной охранкой, о чем его заставляет вспомнить человек из враждебного мира империализма, явившийся с требованием новых услуг.
Тема, не новая для Леонова: и в романе 1936 года Дорога на океан, и в пьесе 1938-го Половчанские сады также являлись шпионы и диверсанты, дабы рушить нашу мирную жизнь.
Вот, однако, что любопытней всего. Грацианский — пророк распада, олицетворение социального пессимизма, и сегодня достаточно сказать только это, чтобы, и не читая роман, догадаться: многое, слишком многое из его предсказаний сбылось и сбывается. В частности, как раз то, о чем сам Леонов говорит в апокалиптической Пирамиде. А коли так, вопрос: мог ли автор хоть в чем-то да соглашаться с тем, что пророчил — и напророчил — персонаж, превращенный его авторской волей во вредителя-сексота-шпиона?
Пожалуй, ответ на это можем сыскать опять-таки в дневнике Чуковского: «По поводу пьесы Гроссмана, разруганной в Правде, Леонов говорит: „Гроссман очень неопытен — он должен был свои заветные мысли вложить в уста какому-нибудь идиоту, заведомому болвану. Если бы вздумали придраться, он мог бы сказать: да ведь это говорит идиот!“».
Что это? Цинизм — допустим, что наиболее извинительный, профессиональный? Или въевшийся страх — особенно сильный у того, кто, если не все, то многое понимает куда лучше тех, кто поддерживает свой оптимизм иллюзиями? И не эта ли глубина неверия, множа цинизм, уже не связанный только с профессией, заставляет и в «первой реальности» совершать то, что совершено во «второй» с антиподом Вихрова? То есть — уже наяву искать врагов и вредителей. «Катаев… сказал… будто найдено письмо Леонова к Сталину, где Леонов, хлопоча о своей пьесе Нашествие, заявляет, что он чистокровный русский, между тем как у нас в литературе слишком уж много космополитов, евреев, южан» (тот же Чуковский).
В итоге — внешне наиблагополучная жизнь живого классика, окруженного официальным почетом (в частности, особая привилегия — именоваться «великим русским писателем» без присовокупления «советский»: не подчеркнутая ли «чистокровность» сыграла как раз свою роль?). Ленинская премия за Русский лес. Медаль Героя Социалистического Труда. Звание академика. Понятно, защищенность от критики: «…Если я захочу написать, что Русский лес Леонова плох, этот путь мне будет закрыт» (снова Чуковский). И когда умрет талантливый критик Марк Щеглов, осмелившийся — в хвалебной статье! — высказать некоторое сомнение насчет образа Грацианского, Леонид Максимович многих поразит, отказавшись подписать в числе прочих некролог.
И при всем при том — выморочность литературного существования. Конечно, не такая, как у Шолохова, давно переставшего сочинять, а в неустанной работе над созданием — в точности по Бальзаку — «неведомого шедевра». (У французского классика, напомним, художник в жажде недостижимого совершенства бесконечно накладывает на полотно один красочный слой за другим — до полной неразличимости изображенного.)
«Социалистический реализм с человеческим лицом» — эта формула, применявшаяся и к Леонову, лишь на первый взгляд каламбурная, а на деле получившая терминологический статус, в сущности, есть сочетание несочетаемого. Если «соцреализм» в общеупотребительном смысле, то при чем тут «человеческое лицо»? Если же оно действительно человеческое, при чем «социалистический»?
Даже Андрей Синявский, автор нашумевшей — насколько может нашуметь «самиздат» — статьи Что такое социалистический реализм (1957), приводя определение, данное в уставе Союза советских писателей: «правдивое, исторически-конкретное изображение действительности в ее революционном развитии» (причем правдивость должна сочетаться «с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма»), — даже Синявский находит аналогию, способную очеловечить то, что в принципе было мертворожденным. Упорно сопоставляет советский соцреализм с русским классицизмом XVIII века: «„Осьмнадцатое столетие“ родственно нам идеей государственной целесообразности… Литература XVIII столетия создала положительного героя, во многом похожего на героя нашей литературы… Мы предпочли скромно назваться соц. реалистами, скрыв под этим свое настоящее имя. Но печать классицизма, яркая или мутная, заметна на подавляющем большинстве наших произведений…».
Неверно! Или — верно, но разве лишь в том смысле, в каком коринфские или дорические колонны, присобаченные к зданию районной бани, родственны колоннадам Кваренги, Воронихина, Росси — их Смольному институту, Казанскому собору, Главному штабу. Потому что русский классицизм с самой своей нормативностью был живорожденным — его родила эпоха, когда, по словам Герцена, лучшее, что было в России, само, по собственной воле стремилось идти вместе с властью. Как опальные Фонвизин или Княжнин, тоже одушевленные идеей государствостроительства.
Но разве в СССР не было этого воодушевления? Вспомним не какого-нибудь присяжного холуя, а… Да многое, многих можно вспомнить. Однако в классицизме не было, не могло быть того, чтобы «государственная целесообразность» или «проблема положительного героя» возникали не сами по себе, по велению духа времени, а навязывались административно. Карамзина с его Бедной Лизой — кто был в силах заставить следовать тем же нормам, коим без принуждения следовали тот же Княжнин или Сумароков? У нас же все шло в дело из соображений тактики, выгоды, злободневного расчета: классикой соцреализма были объявлены не только Железный поток и Как закалялась сталь, но и Дело Артамоновых, и Теркин, и Тихий Дон. И «неореалистическая» повесть В окопах Сталинграда (1946) Виктора Платоновича Некрасова (1911–1987), и экспрессионистские поэмы Маяковского. Да захоти Сталин — а такие ли еще бывали у него капризы? — глядишь, туда же определили бы и Мастера и Маргариту. Почему нет, если Один день Ивана Денисовича пытались в пору его появления приписать к «соцреализму сегодня»?