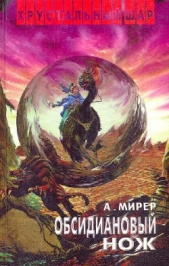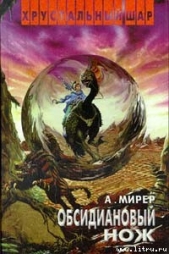Евангелие Михаила Булгакова
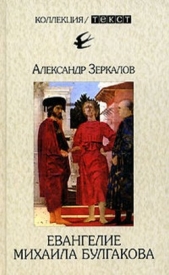
Евангелие Михаила Булгакова читать книгу онлайн
Книга Александра Зеркалова посвящена исследованию ершалаимских глав романа «Мастер и Маргарита» через призму первоисточников булгаковского текста — канонических Евангелий, Талмуда, трудов древних историков и более поздних авторов, на которых прямо или косвенно указывает текст знаменитого романа. Зеркалов не отвергает того, что писалось о творчестве Булгакова до него, однако идет дальше своих предшественников: в свете его выводов текст романа приобретает новое значение, а Булгаков предстает не только выдающимся художником, но и вдумчивым исследователем, которому не чужд научный подход.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Первый вопрос задан, началось судебное следствие. Нет сомнения, что при любой дерзости обвиняемого, при надменных препирательствах, вроде: «От себя ли ты говоришь это?», Пилат, уже показанный Булгаковым, закончил бы допрос немедленно — и одним лишь словом: «Повесить…» Поэтому арестант ведет себя так, как и следует иудейскому бродяжке, парии, перед лицом всесильного правителя. Он искательно подается вперед и начинает: «Добрый человек! Поверь мне…»
Так, дерзость… Правда, безобидная. Пожалуй, забавная. Первая искра интереса брезжит в больной голове правителя. Он говорит: «Это меня ты называешь добрым человеком?.. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно» (с. 437). Абсолютно точное исторически {91}, это заявление колоссально расширяет облик Пилата. Он знает себе истинную цену — тупой злодей Флавия и Филона вряд ли мог так говорить. (Поставим нотабене на этой детали и вернемся к нему позже.) Прокуратор вызывает на сцену кентуриона (сотника) Крысобоя, приказывает увести преступника, объяснить ему правила этикета — и почему-то добавляет: «Но не калечить…» Равнодушно так добавляет, привычно — видимо, «свирепое чудовище» все же гуманнее, чем его подчиненные…
Чрезвычайно показательное преобразование! Не надменного «царя иудейского», а робкого, маленького человечка ведет легионер. Не для пышного, театрального бичевания — чтобы одним убийственным ударом вселить почтение к носителю власти: «Римского прокуратора называть — игемон» (с. 438). (Поставим еще отметку на будущее.) Нет синоптической жестокости, нет иоанновской демонстрации, есть последовательный негатив евангельских мизансцен {52}, {54}. И за ударом следует не глумливая, а презрительная речь: «Ты понял меня или ударить тебя?» — и арестант покорно отвечает: «Я понял тебя. Не бей меня» — даже строением ответа изображая покорность.
Эта сцена к тому же — негатив допроса у первосвященника Анны, когда один из служителей ударил Иисуса — за дерзость, но тот на удар ответил новой дерзостью {39}…
Еще одна деталь-перевертыш. Кентурион Крысобой, которого сам Пилат назовет холодным и убежденным палачом, трансформировался из евангельского сотника, присутствовавшего при казни и уверовавшего в Иисуса {77}…
Иными словами, весь перерыв в допросе — для бичевания только внешне, ритмически соответствует аналогичной паузе у Иоанна. Это ритмическое подобие выдерживается и далее, но везде, кроме одной главной цезуры, заполняется совершенно иным содержанием. Но об этой связке с первоисточником речь будет впереди. Пока — о противопоставлениях.
По Иоанну, Пилат спрашивает: «Откуда ты?», а Иисус не удостаивает его ответом {64}. Но вот что произошло у Булгакова.
Прокуратор спрашивает об имени арестанта, и тот с готовностью называется: Иешуа (Иисус в арамейском произношении). Прозвище: Га-Ноцри. Оно означает «Из Назарета», вполне по-евангельски (земной отец Иисуса, плотник Иосиф, после рождения сына «поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что Он Назореем наречется» (Мф. II, 23) {1}. Но это известное прозвище «Га-Ноцри» восходит к совершенно неожиданному источнику — еврейской канонической книге Талмуду. Отнюдь не по Евангелиям Иешуа Га-Ноцри отвечает и на следующий протокольный вопрос. Родом он вовсе не из Назарета, а из города Гамалы. (По Флавию, Гамала помещалась к востоку от Генисаретского озера, на дальнем краю Палестины. Если иудаисты не признавали пророка из Назарета, то пророк из Гамалы был просто немыслим.)
Мало того. Вот следующий вопрос и поразительный ответ на него; ответ, бросающийся в глаза, очередная метка:
«— Кто ты по крови?
— Я точно не знаю, — живо ответил арестованный, — я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец…» (с. 438).
Поразительно мастерство, с которым Булгаков выразил в короткой фразе бездну интонаций — в самом деле, и незавидный облик матери Иешуа здесь намечен, и смущенно-независимое его отношение к своему происхождению, и очаровательная, наивная правдивость — все в дюжине слов! Но ответ еще отбрасывает и мифологию, облекающую рождение Христа: божественное происхождение, мать-девственницу, земного отца, род которого восходит к царю Давиду {2}. Иешуа таким образом отказывается и от христианских, и от иудаистских божественных прерогатив.
И этот последний ответ, решительный отказ от евангельского стереотипа, также идет из Талмуда.
В рамках сюжетной задачи здесь делается первый шаг к ее решению: булгаковский Иешуа, очевидно, не претендует на роль мессии, народного вождя, — а потому в принципе может быть оправдан грозным правителем Иудеи. Но художественный эффект поворота к еврейским каноническим источникам много, много шире. Здесь, на первых же страницах новеллы, мы сталкиваемся с тем, что я назвал бы феноменом Булгакова — с умением одной короткой фразой, иногда даже одним-единственным словом решить несколько задач и через это слово свести несколько плоскостей произведения в единый художественный объем.
17. Отступление: о Талмуде
Отступление это нужно сделать, чтобы читатель мог ощутить разительное противостояние Талмуда и Нового Завета — и получить представление об эмоциональном пороге, через который пришлось перешагнуть писателю, выросшему в православной среде.
Талмуд — священная книга иудаистов, дополняющая Пятикнижие Моисеево — первую часть Ветхого Завета. Формально Талмуд соотносится с Библией так же, как и Евангелие. Но — только формально. В отличие от Нового Завета, Талмуд ограничился толкованием Пятикнижия, при котором последовательно отверг и предал анафеме любую возможность новации. Основная часть Талмуда, Мишна («Повторение закона»), создавалась на протяжении шести веков, пока в 210 году н.э. не была сформулирована окончательная редакция, содержащая 63 трактата, которые фактически регламентируют все поведение верующих евреев. Не только этически значимые поступки, как в Евангелиях, а все поведение целиком. Мишна дает нормативы богослужения — в том числе и мысли, необходимые для исполнения культа! — устанавливает кары за вероисповедные нарушения, приводит список грехов, караемых смертью. И тут же содержатся правила приготовления пищи, личной гигиены; имущественное, семейное и прочее законодательство. Это нормативный кодекс с поистине необъятной широтой охвата, но главное его качество — не сама широта, а возведение бесконечного числа поведенческих нормативов непосредственно к Богу.
(Мы будем цитировать в основном «Тосефту» — книгу, параллельную Мишне, комментирующую ее и расширяющую.)
Мишна, подобно зеркалу, отображает религиозно-светский характер иудейской религии. На этом уникальном единстве зиждится характерное для иудаистов отторжение всех инаковерующих людей (я уже упоминал о связи между особенностями иудейского культа и политической непримиримостью населения Палестины I века н.э.). Религия распространяла иудейскую непримиримость на любое отклонение от стереотипа — ибо все детали этической матрицы считались священными. Разумеется, отвергалась каждая попытка модернизации религиозных норм. Так, мессия должен происходить из колена Давидова и из города Давидова — иначе он еретик, ибо нет пророка из Галилеи. Эта мелочность кажется нелепой, но она характерна. Понятно, что новоявленная христианская ересь с ее капитальными отклонениями от ветхозаветных норм расценивалась иудаизмом как ужаснейшая сверхъересь, как самое тяжкое предательство {21}.