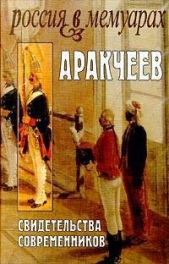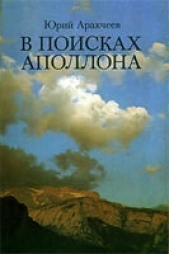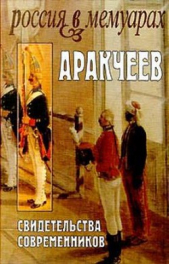Русская жизнь. Потребление (январь 2008)

Русская жизнь. Потребление (январь 2008) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Вот в чем, например. Из каширского исполкома пришла бумага, в которой было сказано, что Борис - писатель, пусть он у нас служит писарем в каширском исполкоме, а Вера (моя жена) - здоровая баба. Ее - на лесные заготовки. Тут уже мы не выдержали и вернулись в Москву. Но это уже другая полоса начинается. Революция кончилась. Вскоре нэп начался. Мы организовали кооперативную лавку писателей. Правительство разрешило оставшимся в России писателям устроить кооперативную лавку, и мы торговали книгами. Нам приносили старые книги, мы их покупали, а потом перепродавали и этим существовали.
- А кто вместе с вами участвовал в этом?
- Хорошая была компания. Бердяев стоял за прилавком со мной рядышком. Потом Осоргин. Затем был такой молодой Грифцов. Вот тут у нас бывал в лавке Андрей Белый, но он не торговал. Еще один там был - Яковлев, теперь он советский писатель, малоизвестный.
- А где же была эта лавка?
- На Никитской в Москве. Работа в этой лавке позволяла существовать. Кое-как, конечно, но все-таки. Позволяла существовать, при этом не служа большевикам. Это была свобода. Это было время нэпа.
- И сколько лет просуществовало ваше предприятие?
- Недолго. Года два или три. В 22-м году мне отчасти повезло - я чуть не умер, заразившись сыпным тифом на железной дороге, вша какая-то укусила. Я чуть не умер в Москве. И это дало повод просить у правительства выпустить меня с семьей в Берлин на лечение. Вот выпустили, и до свидания. А всех моих приятелей, профессоров, писателей выслали в 22-м году осенью на Запад. Это устроил Троцкий, и они должны молебен Троцкому отслужить, потому что это спасло их. Те, которые остались, все погибли в России. Ну, и эти, которых выслали, они тоже все перемерли теперь. И Франк, и философ Вышеславцев, и Бердяев, и Осоргин - всех их выслали.
- Может быть, у вас остались воспоминания, что думали о революции Блок, Бунин, те люди, с которыми вы близко были знакомы? Как они говорили, как менялось их настроение?
- У Бунина есть книга «Окаянные дни». Это сплошной дикий вопль его против всего этого.
- А как он относился к Февральской революции?
- По-моему, тоже плохо. Он очень рано уехал на юг. В самом начале революции.
- А Блока вы встречали после Февраля?
- Да. Он приезжал в Москву, он очень был подавлен, он и болен был, и мрачен, был разочарован в революции. В то же время он с ними много работал, и они его считали своим. «Двенадцать» я помню отлично, на меня очень тяжелое впечатление произвела эта поэма в 1918 году. «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». И ведет за собой этих 12 разбойников, которые стреляют. Белый тоже революцию принял. Но он оказался абсолютно неподходящим для революции. Он сначала уехал в Берлин, мы с ним встречались в 22-23-м году. И Пастернак тоже был за границей, но тоже вернулся.
- А вы Пастернака знали хорошо?
- Он у меня был в Москве, приносил мне рукопись. Он гораздо моложе меня, и он принес мне как старшему писателю свою рукопись, которая, я помню, мне сразу понравилась, и он сам на меня хорошее впечатление произвел.
- А какая это рукопись была?
- Я думаю, что это «Детство Люверс». У него такая есть книжка. Это какие-то отрывки были. Помню, что там об Урале было. Но это не был еще «Доктор Живаго». И вот в последние годы у меня с Пастернаком возникла переписка. Началась она случайно. Оказалось, что мы с ним родились в один и тот же день, только разница в годах. Вот я ему написал. Во-первых, я прочел его роман жене вслух, мне очень понравился этот роман. Вот я об этом написал, и еще написал, что мы с ним родились в знаменательный для русской литературы день: в 1783 году в этот же день родился Жуковский, в 37-м году в этот день был убит Пушкин, в 81-м в этот же день умер Достоевский. Это 29 января по старому стилю, 11 февраля - по новому. Он говорил, что на него это произвело большое впечатление. Потом он мне книги свои присылал, я ему посылал свои книги. У меня есть его письма, такие пылкие, он вообще был пылкий очень человек и горячей души, страстной души.
- Кого вы считаете действительно большими писателями в России после 17-го года?
- Пастернака я считаю настоящим большим писателем. Но есть просто талантливые. Паустовский, например.
- Я хотел вас попросить рассказать немного о Каменеве.
- Собственно, в Московском университете я его почти не знал. Просто мы учились в одно время. А потом уже, во время лавки писателей и во время нэпа, в Москве был Союз русских писателей. Тоже один из парадоксов революции: в нашем Уставе было сказано, что ни одного коммуниста не может быть в этом Союзе. И нам позволяли. Дали даже особняк Герцена нам. Но до поры до времени. Потом выгнали, конечно, всех в 22-м году, к осени, когда выслали все наше правление. А мы с женой в 22-м году в июне уехали. А Каменев в это время был председателем московского Совета рабочих депутатов, который помещался на Тверской в доме генерал-губернатора бывшего. И обыкновенно меня отправляли туда ходатайствовать за разных заключенных, высланных. Так как знали, что Каменев со мной немножко знаком, и вообще Каменев ко мне очень прилично относился. Я ничего не могу сказать, принимал меня он очень любезно, и что мог, он делал. Далеко не все. Бывали просто случаи нелепые. По недоразумению кого-то арестовывали. Был, например, случай такой, что арестовали писателя Соболя в Одессе. Меня просили заступиться, и я пошел к Каменеву. Он говорит:
«- Соболь?
- Да.
- Что он такое там сделал?
- Ничего особенного. Он эсер был.
- А что, он хорошо пишет?
- Ничего.
- Нет, пускай посидит все-таки».
У них уже вырабатывалась известная развязность. Но он среди них был все-таки… Он же сам погиб, его же расстреляли. В сущности, за то, что он не был зверем.
- А с Луначарским у вас уже не было никаких связей?
- Гораздо меньше, чем с этим, на всякие его чтения я не ходил. Один раз я только был в Кремле на собрании, где были представители Союза писателей. Но это было что-то незначительное.
- А в вашем Союзе кто был?
- Бердяев, Осоргин, я, Айхенвальд, критик, Муратов - писатель по вопросам искусства, Эфрос Абрам, Грифцов. Нас было 30-40 человек, может, немного больше.
- У вас была возможность издавать то, что вы писали?
- Никакой. Мы иногда писали от руки свои собственные небольшие книжечки, именно в ту эпоху, когда я служил в Лавке писателей, и эти книжечки продавали. Но это, конечно, можно было дать отдельный рассказик или несколько стихотворений. И Белый нам что-то написал, что-то продали. Один экземпляр лавка оставляла себе. И вот Осоргин Михаил Андреевич, который был большой книголюб, собрал целую коллекцию этих маленьких книжек и в Румянцевский музей отдал, теперешнюю Ленинскую библиотеку в Москве. Я переписываюсь с некоторыми литературоведами в Москве, но они не могут раскопать собрание этих маленьких рукописей, которое иногда даже украшено рисунками самих авторов.
- А по сколько же вы их продавали?
- Не помню. Тогда фунт масла стоил пять миллионов.
- А Пастернак был?
- Нет, Пастернак был более левого уклона. Он тогда дружил с Маяковским и с другими очень советскими персонажами. А мы ведь были антисоветские.
- А в то время были какие-нибудь литературные вечера, выступления?
- Бывали. Были даже такие кафе, но подозрительные, и там выступали разные имажинисты, футуристы, это были вечера со скандальным оттенком. В этих делах я никакого участия не принимал, но раз меня пригласили коммунисты в Дом печати. Среди коммунистов были некоторые такие, которые ко мне по литературной линии относились довольно хорошо. Они считали, что те писатели, которые сейчас живут в Москве это все-таки не враги. И вот меня пригласили, чтобы я чего-нибудь прочел, а мне деньги были очень нужны. Вот я явился в Дом печати. Был удивлен. Мы жили в убогой обстановке, а там было тепло, светло, можно было стакан чаю с вареньем, с бутербродами получить. Я себе мирно перед началом чтения сидел и утешался, как монахи говорят, этим чаем. А рядом со мной сидели двое каких-то типов. Один в такой фригийской шапочке времен Робеспьера. И вот один другого спрашивает: «А кто сегодня будет читать?» И тогда тип в шапочке отвечает: «Известный мерзавец Борис Зайцев».