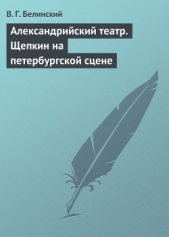Низкий жанр. Рассуждения о писателях

Низкий жанр. Рассуждения о писателях читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сколько это ни удивительно, но превращение художника в пророка у нас всегда бывает омрачено некоторыми побочными эффектами не самого симпатичного свойства, интоксикацией в своем роде. Дело в том, что богу так же трудно среди людей, как среди малолетних преступников доктору философии: Иисус Христос, по свидетельству Евангелий, скорее был грозен, чем благостен по отношению к иудеям, Гоголь, как только почувствовал себя «доверенным лицом мирового духа», в быту стал совершенно непереносим, Достоевский сделался гражданином-отшельником той планеты, которую сам же и изобрел. Что касается Льва Толстого, то он был прямым тираном в границах своей идеи, и тут вырисовывается такая закономерность: чем фундаментальней, продуктивней, путеводительней новая нравственная доктрина, тем в большей степени автор ее деспотизируется, так сказать; но при этом он одновременно становится и рабом этой своей доктрины, способным воспринимать мир исключительно через ее догматы и постулаты, и даже он отчасти становится мизантропом, готовым атаковать самые невинные человеческие радости, от радости физической близости «до искусства». «Балет же, в котором полуобнаженные женщины делают сладострастные движения, переплетаются в разные чувственные гирлянды, есть прямо развратное представление» — это не Победоносцев писал, не Иоанн Кронштадтский, а творец дяди Ерошки, Наташи Ростовой и двух гусаров. Или: «Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно — и главное — к своей жене» — и это написал не столпник какой-нибудь, не аскет, а живой человек, постигший все прелести плотской любви, знавший множество разных женщин и наплодивший с полтора десятка детей, законных и незаконных. Но этот пункт еще можно понять, ибо речь идет о болезни роста: мрачный ригоризм, в который Толстой впал на старости лет, объясняется тем же, что и влюбчивость молодежи.
Особенно зашорен и до капризности неуступчив Лев Николаевич был в отношении венца своей религиозной доктрины — идеи непротивления злу насилием, то бишь даже не до капризности — до смешного. Однажды какой-то студент из Тулы, исповедовавший толстовство, прямодушно его спросил:
— А что, Лев Николаевич, если на меня набросится тигр? Вот так просто и отдаться ему на съедение?
Толстой ответил с самым серьезным видом:
— Да откуда же в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!
— Ну а все-таки! Предположим, на меня нападает тигр…
— Да откуда же в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!
— Ну а все-таки!
— Да откуда же в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!
И так до полной невозможности продолжать теоретическую беседу.
Видимо, Лев Николаевич чувствовал-таки слабинку в своем учении, его неполную защищенность, но тем настойчивее он проталкивал его в жизнь. В отличие от чистых философов, мыслящих отвлеченно и в редчайших случаях проецировавших свои социальные теории на практику бытия, наш великий художественный мыслитель настойчиво прививал на российской почве свое новое христианство — так наши политики внедряют разные новшества и реформы: чуть придет на ум какая-то социально-экономическая идея, сейчас ее в массы, невзирая ни на какие реальности, закономерности и противопоказания этнического порядка. Ведь он не только пропагандировал толстовство путем печатного слова, хотя уже и «слово его было властью», как сказано у Луки, но и сам пахал, косил, учил грамоте крестьянских детей, тачал сапоги, шорничал, прибирался у себя в комнате и принимал исключительно растительную пищу, отчего постоянно страдал желудком. И это живя среди изящно одетых полубездельников, любящих покушать и все такое прочее, владея огромными поместьями и миллионным состоянием, будучи, сдается, крупнейшим писателем в истории человечества, да еще существуя в условиях государственности, разве что приличной скотоводческим племенам. Товарищи по перу за него от чистого сердца переживали, зачем он не пишет художественное и выставляет себя на посмешище дуракам, окрестные крестьяне подозревали его в двуличии, дети косились, а супруга, Софья Андреевна, бывало, подначивала за обедом:
— Призываешь всех к опрощению, а сам спаржу кушаешь…
И вот тут мы упираемся в один драматический пункт: несмотря на мировую славу, богатство, отлично налаженный быт, Лев Николаевич, возможно, был несчастнейшим человекописателем своего времени, ибо он был мучеником идеи и своим духовно-нравственным существом принадлежал вечногрядущему, как Спиноза или Паскаль. Самые твердые его последователи были из блаженных, обскурантов либо из простаков, с властями предержащими он рассорился насмерть, и его только через мировую славу не упекли, но обыски делали и тайных надзирателей приставляли, большинство домочадцев были его идеологическими противниками, например, Андрей Львович принципиально отправился на войну, а Лев Львович даже написал художественное опровержение на «Крейцерову сонату»; что же касается Софьи Андреевны, то она точно в пику своему великому мужу, отказавшемуся от всех прав собственности, нанимала кавказцев для охраны угодий от яснополянских крестьян, завела в Москве торговлю книгами Льва Толстого, позволяла себе интриги со знаменитостями и своими финансовыми претензиями вечно не давала ему житья. И дети и супруга отлично понимали, что Лев Николаевич гений, что гению извинительны любые причуды, хоть ходи он на голове, и что ему следовало во всем решительно потакать, но они понимали это чисто теоретически, потому что нужно быть сколько-нибудь Толстым, чтобы соединить теорию с практикой, какой бы причудливой эта теория ни была, а они оказались Толстыми, можно сказать, нечаянно. Наконец и умные люди стали с усмешкой посматривать на Льва Николаевича, поскольку Шекспира он ни в грош не ставил, но зато призывал литераторов учиться мыслить у юродивого Сютаева, а писать — у яснополянских ребятишек, сидевших за партами в его школе.
Но мало этого: цель и смысл его жизни, чистое христианство, в народе скудно принялось и надолго не прижилось, — распространившиеся было колонии толстовцев распались еще до Великого Октября, Кстати сказать, это не совсем ясно: традиционное христианство пережило два тысячелетия, евангелисты, пятидесятники, молокане, духоборы, старообрядцы существуют по наши дни, а толстовская ересь как-то не прижилась. Видимо, невосприимчивость народа к чистому христианству в определенной степени была обусловлена неким аристократизмом самой религиозной идеи и сильным привкусом художественности в ее догмах, а это, как говорится, непонятно широким массам. Вместе с тем толстовство вообще не было рассчитано на живого, ординарного, слабого человека, то есть на огромное большинство. Христос тем-то и был премудр, что выработал общедоступное нравственное учение, основанное, в сущности, на прощении, которое мог исповедовать, а мог не исповедовать и раб и господин, и неуч и грамотей, и стоик и шалопай, и умница и дурак. Толстовство же налагало на человека без малого непосильную схиму, потому что, во-первых, оно предполагало в каждом неофите духовную подготовленность самого Толстого, во-вторых, по некоторым кардинальным пунктам оно входило в противоречие с человеческим естеством, в-третьих, лишало свободы выбора и не предусматривало спасения для отступников, в-четвертых, ставило своей целью не столько потустороннее блаженство, сколько царствие божие на земле. Между тем величайшим мыслителем всех времен и народов, видимо, будет тот, кто сумеет подвести под общий, так сказать, всеразрешающий знаменатель временное и вечное, силу и слабость, добро и зло.
Таким образом, Толстой сочинил вполне утопическую религию, интересную разве что для тончайшего жирового покрова человеческой гущи, так называемого культурного общества, ибо рабочему, крестьянину, нищему, солдату, ремесленнику некуда и незачем опрощаться, и не могут они пользоваться результатами чужого труда, и медицина для них практически недоступна, и в балете они не бывают, «где полуобнаженные женщины делают сладострастные движения», и любовь-то для них скорее отправление организма. К этому огромному народному большинству обращен единственно догмат непротивления злу насилием, но ведь на трезвый взгляд нашего положительного народа, который имел традицию насмерть забивать конокрадов, по большим праздникам устраивал массовые побоища, нередко впадал в жестокие межевые войны и топил в колодцах своих помещиков, учение о непротивлении злу насилием,, есть барская забава, и более ничего, вроде барометра или ланкастеровой школы взаимного обучения. Впрочем, и культурному обществу пришлось не совсем ко двору чистое христианство, потому что оно нашло в нем много антикультурного, обращенного вспять, замешанного на старческой озлобленности против кипучей жизни, что-то похожее на теперешний хомейнизм.