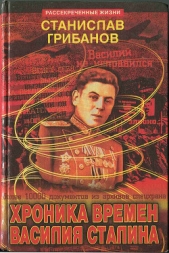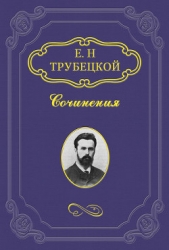Сталин и писатели Книга первая

Сталин и писатели Книга первая читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, в Центральном Доме литераторов торжественно отмечался вечер памяти Эренбурга.
Мы с женой немного опоздали и вошли в зал, когда вечер уже начался.
Нас было трое: с нами была Ирина, дочь Ильи Григорьевича, с которой мы были тогда (как, впрочем, и потом, до самого конца ее жизни) очень дружны. Ей-то уж во всяком случае не полагалось опаздывать на этот вечер, но — не помню почему — вышло так, что мы опоздали. И войдя в зал, увидели киноэкран, на котором — крупным планом — Илья Григорьевич, стоя на той самой трибуне в Свердловском зале Большого Кремлевского дворца, в этот вот самый день 27 января, но не 71-го, а 53-го года, произносил такие слова:
— Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства…
Зал был полон. К тому же было темно, и искать свои места нам было неудобно. Поэтому эту старую кинохронику мы, как вошли, так — до самого ее конца — смотрели стоя.
О чем думала и что чувствовала Ирина, глядя на умершего и теперь вот воскресшего на экране отца, я не знаю.
О чем думал и что чувствовал я, скажу чуть позднее.
А жена моя, кинув на меня испепеляющий взгляд, довольно громко прошептала:
— Ну?! Теперь ты видишь?!
Это значило: «Теперь, я надеюсь, ты наконец-то увидел, какой негодяй этот твой Эренбург?!» Сжав ее руку, я сказал:
— Молчи! Ты ничего не понимаешь!
Отчасти я это сказал из-за Ирины, боясь, как бы жена не продолжила тему и не высказала все, что она по этому поводу думает, так сказать, открытым текстом. А что она об этом думала, я хорошо знал по давним, многолетним нашим спорам, нередко принимавшим даже форму скандалов.
Впрочем, Ирина тоже знала, что отношение моей жены к ее отцу было, мягко говоря, неприязненным.
При Ирине жена, конечно, все-таки старалась держаться в некоторых рамках. Но даже простое соблюдение приличий ей не всегда удавалось.
Однажды — после одного из таких объяснений — Ирина сказала ей:
— Неужели вы не понимаете, что этими своими постоянными нападками на моего отца вы меня обижаете?
— Зато я не держу камня за пазухой! — гордо ответила моя прямодушная жена. На что Ирина очень недурно ей возразила:
— Уж лучше бы вы держали свои камни за пазухой, а не кидали их в меня и в моего отца.
Вот и сейчас, предвидя начинающуюся дискуссию о роли Эренбурга в общественной и политической жизни нашей страны и стараясь прекратить ее в самом зародыше, я прежде всего, естественно, думал о том, чтобы жена в очередной раз не обидела Ирину. Да еще сейчас, в такой день — и в такой момент!
Поэтому я и сжал изо всей силы ее руку и прошептал: «Молчи!». Но не только поэтому добавил: «Ты ничего не понимаешь!»
Я действительно считал, что она тут понимает не все. А многое так даже и вовсе не понимает. Вернее, понимает неправильно.
В отличие от моей жены, я очень хорошо помнил, о чем я думал тогда, в 1953 году, прочитав вот эти самые — только что услышанные нами — эренбурговские слова.
«Молодец, Илья Григорьевич!» — думал я, читая в «Правде», в той самой «Правде», со страниц которой ежедневно лился поток антисемитской брани, что «каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации…» «Как важно, — думал я, — что именно сейчас он вот так, громко, на весь мир сказал это!»
В отличие от жены я к тому же прекрасно понимал, что, произнося эти слова, так открыто идущие вразрез с тем, что ежедневно неслось в мир с этих же самых страниц, Эренбург проявляет недюжинную, может быть, даже отчаянную смелость.
Но ведь в этом-то как раз и состояла вся макиавеллиевская гениальность сталинского сценария.
В своих мемуарах Эренбург рассказывает, что вел себя в той непростой для него ситуации не больно законопослушно. Даже строптиво:
Григорьян пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии: «Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках…» Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду. Мой собеседник начал меня успокаивать: «Это не директива, просто я хотел вам подсказать…»
О своей речи на церемонии вручения Эренбург вспоминает так:
Речь была короткой. Я сказал: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства…»
Эти слова были продиктованы событиями, и я снова вернулся к тому, что меня мучило: «На этом торжестве в белом парадном зале Кремля я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих…» В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что, когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной — к словам о преследовании вставили «силы реакции»: боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии.
Так оно все и было. Он не лгал, говорил правду. Не всю, конечно, правду (всю тогда сказать он еще не мог: недаром же назвал арестованных врачей жертвами Берии, а не Сталина, хотя прекрасно знал, кто был главным сценаристом и режиссером этого спектакля), но — правду.
Сути дела это, однако, не меняло.
Хуже того! Чем свободнее, чем смелее, чем непокорнее вел он себя на той высокой трибуне, чем больше позволял себе отклонений от сценария (в определенных, конечно, пределах), тем лучше он выполнял назначенную ему роль ширмы.
Когда в 49-м году Сталину стукнуло 70, все, кто был допущен к целованию (кто в ручку, кто в плечико, кто — не стану говорить, куда), выполнили эту лакейскую обязанность. К хору соратников — отечественных и зарубежных — присоединились, конечно, и писатели. Прочувствованную статью написал Фадеев. В присущем ему вычурно-выспренном стиле высказался Леонид Леонов.
В свой черед выступил со статьей на эту тему и Эренбург. Промолчать, не откликнуться на семидесятилетие вождя он, понятное дело, не мог.
Впрочем, раньше ли, позже, в славословии вождя приняли участие практически все знаменитые наши писатели и поэты.
У Пастернака был долгий и бурный роман со Сталиным, пик которого получил выражение в знаменитых его стихах: «… За древней каменной стеной, Живет не человек — деянье, Поступок ростом с шар земной».
У Мандельштама это был не роман, а трагедия, в сравнении с психологическими изломами которой меркнет фантазия Достоевского. И это тоже нашло отражение в гениальных (а главное, искренних) стихотворных строчках: «И к нему, в его сердцевину, я без пропуска в Кремль вошел, разорвав расстояний холстину, головой повинной тяжел».
Заболоцкий свою «Горийскую симфонию» написал без надрыва, но тоже, я думаю, с немалой долей искренности: неискренние стихи такими не бывают.
Что касается сочинений публицистического жанра, где мера искренности не так важна, как в поэзии, тут уж каждый старался поднять планку льстивых восхвалений хоть на сантиметр, а все-таки выше другого. Рекордной высоты достиг Леонид Леонов, предложивший начать новое летоисчисление со дня рождения товарища Сталина. (Кто знает, продлись жизнь вождя еще на годик-другой, и предложение это, глядишь, было бы принято.)
С наибольшим достоинством вышла из этого щекотливого положения Ахматова. По личным обстоятельствам («Муж в могиле, сын в тюрьме…») ей тоже пришлось отметиться, присоединив свой голос к общему хору льстецов. И она это сделала. Но в стилистике, резко отличающейся от той, в которой выполнили эту задачу все ее собратья по перу.