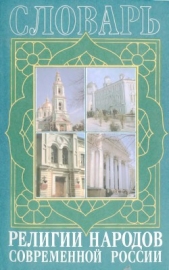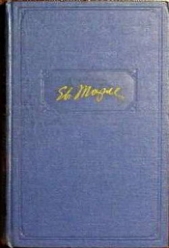Юдаизм. Сахарна
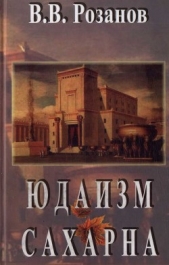
Юдаизм. Сахарна читать книгу онлайн
В настоящий том сочинений В.В.Розанова вошли близкие по тематике произведения: "Юдаизм" (1903), "Сахарна" (1913), "Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови" (1914) и др. В них представлен широкий спектр парадоксальных размышлений писателя о религии и культуре, большое внимание уделено мифологеме развития национального сознания в России. Издание рассчитано на интересующихся историей русской философии и культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И эта малодушная их ложь — вот их грех. Они недостойны религии ни древней, ни новой. Они — «клиптоты», шкурки, шелуха; а — не зерно.
Вот где их грех и ничтожество. В.Р. Спб. 25 янв. 1914 г.
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1909—1914 гг.
Библейская поэзия
«О поэзии в Библии» было написано в 1909 году; печатается же теперь впервые. — «О Песне песней» было написано в 1909-м году и тогда же напечатано предисловием к изданию «Пантеона»: «Песнь песней» Соломона. Перевод с древнееврейского и примечания А. Эфроса. Спб., 1909 г.».
Спб., 1911 г., октября 16.
О поэзии в Библии
Далекие, далекие пустыни... Солнце страшно печет, ночи холодные... Солнце как острый глаз в небе, жгучий, сыплющий лучи, — в небе почти черном; и звезды огромные, как бы наполненные соком, жизнью— кровью, — разбросаны в глубине небес, и кажутся висящими над землею как золотые плоды всемирного распустившегося дерева, под сенью которого лежит земля, и вот на ней шалаш человека...
И человек худощавый, высокий, с длинной седой бородой, столетний... Сухое тело, темная кожа, жгучая кровь. Она стара и не стара. Здесь люди поздно стареют, поздно зреют, не выхолаживаются, не пустеют.
Говорить не с кем... Говорятся немногие слова. Говорятся в случаях многозначительных. Нужен необыкновенный феномен, чтобы на камне, листе пальмы, кожаной тряпке записать что-нибудь; и необычайное нужно стечение обстоятельств, чтобы записанное сохранилось.
Полное отсутствие письменности, почти полное... Не для кого писать: кто же будет тогда писать?!
Но душа человека вечно полна речей... Писаных, ненаписанных, все равно — полна: как сердце, видим мы его или не видим, слушаем его биение или не слышим, — оно полно кровью и делает все, что сердцу принадлежит делать. И, «словесное существо», человек говорил до письменности так же много, как говорит и при письменности: но когда некому говорить, слова остаются в сердце и жгут сердце, воспитывают его, умудряют его.
Сухие, высокие старики пустынь были мудрые люди. Великий жар безмолвной души связался с великим жаром палящего солнца, полнокровных, полносочных звезд; и стало что-то одно, между Землею и Небом, не Земля и не Небо...
Стала молитва. Стало чувство Бога.
Стала религия.
Без догм, без определений, без границ... Религия бесконечная, как бесконечна пустыня. Религия как торжественность. Религия как святость.
Религия как «мое» у каждого старика.
Но как старики были похожи друг на друга, и пустыня — одна, то и религия — была одна. Без уговоров, без условий, без соглашений.
«Моя» дума.
«Наша» дума.
Как прозрачный, утренний голубой туман между росистой землей и восходящим солнцем. Где его граница? Долго ли простоит он? Зачем спрашивать: гляди и любуйся.
Такова была «религия» этих старцев: просто — их «дума»; и, полнее — их существо, столь же физиологическое, как и духовное.
Немногое из этих «дум» было записано. Как «записалось» — это почти чудо, феномен. Больше было запомнено, — благочестивой памятью детей, благочестивой памятью внуков, даровитым любопытствующим соседом, передавшим соседу, сыну, внуку «слова», изречения «вон того высокого старика».
И как солнце не задерживается в ходе своем, так никто не заграждал воли этих стариков... Сухие и не сухие, старые и не старые, — каждый из них был окружен народцем: жен и жен, рабынь и наложниц, детей — детей — детей, множества детей, и внуков, глядя на которых к девяноста годам старец шептал: «Их — как песку в пустыне».
И дальше — стада... Дерево и плоды его... Виноградник и виноград... Козий сыр, овечья шерсть, молоко — молоко — молоко, — коров, кобылиц.
Сон. Отдых. Не торопливый, не нервный труд... И размножение, — как у овец, у кобылиц, у ослов, у круторогих могучих быков.
И хорошо и не хорошо.
Полно и мало.
Человек благодарил Бога.
В это время Европа была еще ледяная, холодная, дикая, необитаемая.
«Я» земли было в этих стариках.
И как они были одни, то это было всемирное «я».
И мелькнул исторический день. Два дня. Пронеслись века... Земля зашумела и помолодела.
Древняя земля была стара. Чем ближе к нам — молодее. Земля родилась из старого лона, и как растет — все молодеет.
Вот города Финикии, торговые, шумные... Спешат корабли к Силону, к Тиру, к Библосу... Вдали слагаются громадные царства, и за пустыней лежит Ассирия, пугающая робкие племена... В высоких, таинственных, молчаливых дворцах слагаются свои легенды. Свои мифы, своя история.
По ту сторону моря — старый, как земля, Египет, начала которого никто не помнит, и всем кажется, что он вечно был и никогда не зачинался. Был как есть, стройный, мудрый, сложный.
Там все мудро, — там науки, традиция наук. И когда они родились — тоже никто не знает. Родились при храмах, как великая тайна, как великий секрет старцев. Первая «наука» самому изобретателю ее показалась как чудо, как колдовство, как небесное откровенье. Квадраты чисел, кубы чисел, первая разрешенная арифметическая задача поразила человека, как радий наше время.
«Все это так необыкновенно. А необыкновенное — от Бога».
Между Аравией, Египтом и Финикией, по сю сторону Ирана и Месопотамии, лежали полоски земли, никому не понадобившиеся и никем пока не занятые. Здесь бродили остатки и потомки тех древних стариков, кости которых покоились в священных могилах. Могила копалась около могилы. А весь ставилась около веси... И те же стада и те же дети... Так же много жен. И границы семьи и племени, рода и народца не разграничивались.
Род переходил в народ. А народ разделялся на роды.
И так же всехжгло солнце... И так же говорило всем Небо... И так же человек слушал Небо.
Но уже все более шумело, все помолодело.
Старцы чуть-чуть отодвинулись вдаль. Отодвинулись за занавески палаток. Уже оттого, что они безмолвны, или мало говорят, — кажется, что «нет их». На передний фас выдвинулось мужественное и молодое, говорливое, шумное, любящее, имеющее «истории». Женщины, которые не смели поднять головы в присутствии «владыки и мужа» своего, того прежнего старца, — теперь поднимают глаза, руки, речи, — и всему сообщают совершенно новый рисунок.
Солнце помолодело. Земля помолодела. Все помолодело. От того, что всего стало больше и все сделалось шумнее, оживленнее.
Рождать перестали так безмолвно, как прежде, как овцы и козы и ослицы. Проглянули человеческие глаза, проглянули в самом рождении. Чего— то захотелось. О чем-то вздохнулось. Что-то вспомнилось. Где-то на краю пустыни случился первый роман, — о котором рассказывали под шатрами со страхом и любопытством.
Как будто первозданные громадные скалы распались: и произошли холмики, долины, зеленеющие, с цветочками.
Запелась песня. Рассказалась сказка. Послышался речитатив, первый ритм, первая музыка.
Человек юнел, мудрел. Человек стал сложнее.
Родился грех. Родилось соперничество. Родилась зависть...
Молитва стала гораздо сложнее: стало надобиться замолить тоску.
Понадобилось укротить страх.
Понадобилось «отвратить врага и хищника» от ворот дома своего.
Лес рос еще прямо. Но в лесу закопошились гады.
И все-таки земля была еще очень хороша.
На этих полосках земли, которые пока еще никому не понадобились, — бродили евреи. С робостью взирали они на старый Египет, могущественную Ассирию, изумительных финикиан. Они были всех темнее, дичее, первобытнее. Они смотрели из своего «я» на соседние могущества и мудрость, как деревня смотрит на город, — огромный, непонятный и пугающий.
Они были робки.
Они были кротки.
В них было что-то тихое, милое и молчаливое. Когда первобытные скалы раскололись, — в сторону откатились драгоценнейшие камешки, немногие, внутри их хранившиеся. Они откатились далеко и сейчас затерялись. Их никто не нашел. Но чудным сознанием горел каждый камешек: «Я — лучшее у Бога».