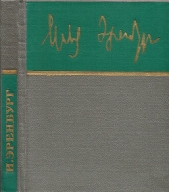Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда Кашкин и Роберт Джордан пришли к Гэйлорду, то русский настоял на необходимости знакомства с Карковым-Кольцовым. Первые шероховатости от встречи сгладились, и американский доброволец-подрывник, интеллектуал и специалист по испанской филологии, крепко подружился с русским евреем, интербригадовцем, редактором коммунистической «Правды», посланцем Сталина и человеком, неуклонно проводящим политику Москвы, хотя и занимающим внутри интернационального движения позицию, противоположную Андре Марти и другим расстрельщикам.
В испанских событиях русские, советские, руководили всем. Интербригадовские генералы вроде Листера и Эль Кампесино действовали по их указаниям и учились у советников военному делу. Республика переживала тяжелые времена, и жестокость казалась в порядке вещей. Эта жестокость оправдывалась трудностями борьбы. Советские представители отличались если не жестокостью, то жесткостью, граничащей с ней. И здесь Хемингуэй создает эпизод, обладавший какой-то мистической связью с подлинной жизнью Михаила Кольцова, о которой он не имел понятия и отдельные факты которой стали известны лишь в последние годы, когда Хемингуэй давно умер.
В ноябре 1951 года в Томске, вызубривая листочки из папки «Бухучет», я тоже обратил внимание на этот суицидальный момент, возникший в связи с опасностью пленения русских интербригадовцев франкистами. В центре эпизода находилась фигура Каркова-Кольцова. Он имел дело не только с Франко, но и со Сталиным, и его убили не фашисты, а московские партайгеноссе из ЦК ВКП(б) и Лубянки, и убили ни за что. Я это хорошо знал и понимал, что на родине Кольцов в преддверии ареста мог прибегнуть к суициду, предпочитая его долгим месяцам мучений в застенках Берии. На суицид, очевидно, намекал и Сталин после известного отчета Кольцова в Кремле, о котором еще пойдет речь.
В «Палас-отеле», повествует Хемингуэй, лежали два русских танкиста и летчик. Смертельные раны не позволяли их вывезти, если город решено будет сдать, а «мертвые не выдают своей национальности и своих политических убеждений». Следовательно, им нужно дать яд, чтобы избавить от издевательств и смерти, которая неминуемо наступит, если они попадут в лапы франкистов.
«А как вы думали это осуществить? — спросил Роберт Джордан и добавил: — Ведь не так просто дать яд человеку».
Что же ответил коммунист гуманисту? А вот что. И ниже идет пассаж, открывающий нам некую тайну состояния Каркова-Кольцова. Легко предположить, что в тот момент этот человек думал не только о фалангистском Бургосе, но и о родной Москве.
«— Нет, очень просто, если всегда имеешь это в запасе для самого себя. — И он открыл свой портсигар и показал Роберту Джордану, что спрятано в его крышке.
— Но ведь если вы попадете в плен, у вас первым делом отнимут портсигар, — возразил Роберт Джордан. — Скажут „руки вверх“, и все».
Наивный интербригадовец, интеллектуал и честный открытый боец! Ты не имел никакого понятия о тех, кто был повенчан со смертью изначально, с дней проклятой революции. Ты не имел никакого понятия о приемах суровейшей борьбы, в которую ввязался с самыми лучшими и чистыми намерениями. Диверсанты всего мира знают, как уйти из него без лишних мук.
«А у меня еще вот тут есть, — усмехнулся Карков и показал на лацкан своей куртки. — Нужно только взять кончик лацкана в рот, вот так, раздавить ампулу зубами и глотнуть».
Далее Роберт Джордан интересуется: действительно ли яд пахнет горьким миндалем, «как пишут в детективных романах»?
Карков-Кольцов еще не знает, какой запах издает яд. Он отвечает Роберту Джордану весело. Он выслушивает совет американца приберечь яд для подходящего случая. Яд нынче дорог, его не достать.
И полвека назад в сибирских Афинах, голодноватых и заснеженных, крепко подмороженных простецким морозцем, этот далекий сюжет оставил отчаянное впечатление. Я тогда подумал: почему Кольцов не воспользовался ядом в начале 1939 года перед арестом? Ян Гамарник поступил мудрее. Неужели Кольцов надеялся на справедливость или милость вождя? Невероятно! Или у него недостало силы духа? А может, портсигар и куртку он оставил в Испании или сдал куда следует по возвращении в Москву? Мысли не давали покоя десятки лет. Ведь Кольцов был подготовлен к такому повороту событий! Совершенно готов! Вдобавок и Эренбург свидетельствует о документальной точности Хемингуэя, когда дело касалось поступков и поведения Кольцова.
Суицидальный мотив отчетливо звучит в дальнейшем рассказе Эренбурга. Я мог бы процитировать этот пассаж по первоисточнику, сославшись на воспоминания брата Кольцова карикатуриста Бориса Ефимова, прожившего долгую и, по моему глубокому убеждению, ужасную жизнь. Господи, кого он только не рисовал, над кем только не смеялся, кого только не старался разоблачить и унизить по приказу сталинских агитпропщиков! Не хочется ему верить! Не хочется его цитировать. Не хочется прикасаться к его творчеству! Все кошмары сталинской, а затем советской продажной прессы, кажется, сконцентрировались в жирных картинках Ефимова. Но условия жизни нашей таковы, что иногда приходится пользоваться фактами, почерпнутыми из — мягко выражаясь! — сомнительных и не очень ароматных источников. Источник не вызывает уважения, но в данном случае факт, пропущенный через сознание Эренбурга, который не испытывал к Ефимову похожих эмоций, и тщательно Эренбургом откорректированный в форме прибавлений к основному эпизоду, думается, можно как исключение использовать в качестве достоверного исторического материала. Тем более что он имеет некую зловещую связь с фрагментом, извлеченным из романа «По ком звонит колокол». Весьма конкретное предвидение американского пророка — беседа с Робертом Джорданом и столкновение с Андре Марти — находит подтверждение в общем контексте жизни и гибели Михаила Кольцова.
Давида Бергельсона я видел однажды в Киеве на ступеньках писательского дома в конце улицы Ленина, которая до революции носила название Фундуклеевской по имени генерал-губернатора Фундуклея, а теперь переименована и называется улицей Богдана Хмельницкого, что само по себе весьма странно, так как гетман крепко повязал неньку с москалями в 1654 году, приняв историческое решение о воссоединении Украины с Россией. Булава Хмельницкого на знаменитом памятнике указывает в сторону Москвы. Прежнее соглашение с гетманом Конецпольским, которое двадцать четыре года назад заключила казацкая старшина, давно было ликвидировано. Перед Киевом открывались широкие перспективы, но только в составе России. Переяславская рада оказалась крепким орешком. Ее расколоть удалось лишь в Беловежской пуще.
Словом, Бергельсон стоял на ступеньках дома, который еще назывался РОЛИТом (робитныки литературы), когда в полную силу действовали решения, принятые в Переяславе. Он поцеловал руку у Лотты, погладил меня по голове — что за странная манера у еврейских писателей: когда нечего сказать подростку, они все время гладят по голове! — и исчез навеки, удалившись легкой, пружинистой походкой, неожиданной для такого «незграбного» — украинское понятие! — тела.
Лотта сказала назидательно:
— Тебе будут потом объяснять, что Шолом-Алейхем — великий писатель или Бялик — великий писатель, но на самом-то деле великий писатель — Давид Бергельсон, которого ты сейчас имел счастье увидеть.
Я, грешник, подумал, что она возвеличивает Бергельсона потому, что он галантно поцеловал ей руку. Не каждой женщине великие писатели целуют руку. Немного повзрослев, я, опять же грешник, заподозрил, что Бергельсон поцеловал руку потому, что хотел подчеркнуть: несмотря на изменение семейного положения, он, Бергельсон, по-прежнему относится к Лотте с почтением, которого она достойна. Постарев, я понял, что великий писатель просто любил красивых женщин и расточал поцелуи при каждом удобном случае.
А так черт его знает, отчего он осыпал Лотту любезностями и приложился к руке, будто моя тетка императрица.