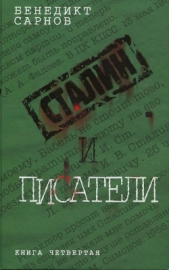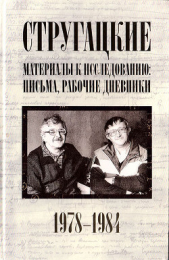Сталин и писатели Книга третья

Сталин и писатели Книга третья читать книгу онлайн
Третий том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» — как и второй том той же книги — состоит из четырех глав: «Сталин и Шолохов», «Сталин и Пильняк», «Сталин и Замятин», «Сталин и Платонов».
Эти четыре сюжета не менее — а в иных случаях и более — драматичны, чем те, с которыми читатель столкнулся в первых двух книгах трехтомника.
В главе «Сталин и Шолохов» Б. Сарнов включается в давние, а в последние годы с новой силой вспыхнувшие споры о том, кто был автором «Тихого Дона». Но его тут интересует не столько сама эта проблема, сколько отношение к ней Сталина: ведь именно Сталин пресек все «сплетни» о плагиате и «назначил» автором этой великой книги молодого Шолохова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Может быть.
Но массовым психозом тогда это точно еще не стало. Впрочем, и в замятинской антиутопии, чтобы это сознание стало массовым, надо было создать, выстроить систему, при которой каждый усомнившийся в правильности устройства Единого Государства обречен — рано или поздно — оказаться в «машине Благодетеля».
Именно такую систему, как мы знаем, и создал Сталин.
А вот еще одна коллизия, создавая, выдумывая которую Замятин, надо полагать, уж точно считал гротескной.
Платон, как известно, из своего идеального Государства изгнал поэтов. И правильно сделал: от этих поэтов в обществе одна только смута и смятение умов.
В Едином Государстве Замятина поэты есть. Но общественная функция у них тут совсем не та, к какой мы привыкли («В мой жестокий век восславил я свободу...», «Милость к падшим призывал» — и все такое). И даже не то, что «не та», а — прямо противоположная:
► — Эй, математик, замечтался!
Я вздрогнул. На меня — черные, лакированные смехом глаза, толстые, негрские губы. Поэт R—13, старый приятель...
— Ну, а как же ваш «И н т е г р а л»? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните! А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему «И н т е г р а л у» не поднять. Каждый день от восьми до одиннадцати...
Я оживился:
— А, вы тоже пишете для «И н т е г р а л а»? Ну скажите, о чем? Ну вот хоть, например, сегодня.
— Сегодня — ни о чем. Другим занят был..
— Чем другим?
R сморщился:
— Чем-чем! Ну, если угодно — приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов. Два года сидели рядом, как будто ничего. И вдруг — на тебе: «Я, говорит, — гений, гений — выше закона». И такое наляпал... Ну да что... Эх!
Толстые губы висели, лак в глазах съело. R—13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену.
О том, как и для чего R—13 «поэтизировал приговор», мы узнаём в следующей главе — той, в которой Благодетель на глазах у праздничной, ликующей толпы «нумеров» совершает свое публичное «благодеяние», то есть — казнь:
► ... наверху, на Кубе, возле Машины — неподвижная, как из металла... фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать... Но зато руки...
И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась — медленный, чугунный жест — и с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к Кубу нумер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий — увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы — о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств
У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.
Снова медленный, тяжкий жест — и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может? Нет: его толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей — но все же: так волноваться...
Резкие, быстрые, — острым топором — хореи. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить...
R—13 бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости) — опустился, сел.
Похоже, что рассказчик не совсем правильно понимает природу волнения Государственного Поэта. Похоже даже, что его понимание этого волнения бесконечно далеко от реальности. Нет, не потому R—13 бледен, как смерть, и не потому его серые губы трясутся, что он потрясен оказанной ему неслыханной честью. И не застенчивость привела его в состояние этого душевного смятения, которое он не в силах скрыть, а тот очевидный и несомненный факт, что свою миссию Государственного Поэта, обязанного «поэтизировать приговор», он выполняет через силу, становясь, как сказал лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи, на горло собственной песне.
Он, кстати, однажды тоже оказался в точно таком же положении, в какое Замятин поставил своего R—13.
В 1928 году приехал он в город Свердловск (бывший Екатеринбург), где десять лет тому назад был приговорен к смерти и убит последний русский царь. И тут на него снизошло, — нет, не вдохновение, — на него снизошел, как тогда говорили, социальный заказ. Он решил, что обязан опоэтизировать тот давний приговор.
Начал он издалека, с давних, чуть ли не детских своих воспоминаний:
Это — агитлубок. В духе знаменитых его плакатов для окон РОСТА. «Сверхзадача» такого стилистического решения очевидна: надо сперва так изобразить расстрелянного императора, чтобы ни у кого из читателей не возникло и тени сочувствия ни к нему, ни к его «чуркам-дочуркам».
От этого, однако, до «поэтизации приговора» еще далеко. И тут эстетика лубка решительно отбрасывается и в дело вступает суровое реалистическое описание. Автор с председателем Свердловского исполкома Парамоновым едут на поиски места, где зарыт труп расстрелянного царя: