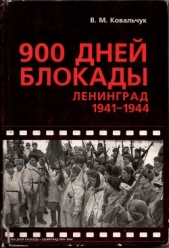Блокадная книга
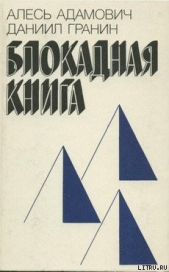
Блокадная книга читать книгу онлайн
Переиздание широко известного произведения, в котором, основываясь на большом фактическом материале — документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, — авторы рассказывают о мужестве защитников города, о героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А по радио, может быть, в это самое время звучали такие странные и такие понятные блокадникам слова:
У Князева радио, мы помним, все время испорчено, молчит. Как эти слова из «Февральского дневника» Ольги Берггольц воспринимал бы он? Насколько они выражали все то, что испытывал и о чем писал в дневнике Князев, — эту голодную возбужденность, которую пережили и помнят многие (состояние, которое у других затем переходило — а Князев все не поддавался! — в апатию, безразличие ко всему), это упоение всем, что способна еще подарить жизнь (даже в блокаду) человеку, истово преданному культуре, а сейчас начинающему с новой силой любить и ценить Ленинград, поэзию, понимать людей, которым выпала тяжелейшая судьба, отстояв, спасти гуманистическое прошлое и будущее человечества?..
Из дневника Г. А. Князева:
«Разговорились с В. А. Петровым, сотрудником ИИМК. [41] Он говорил мне: «В конце января, когда я потерял жену и дочь, когда квартира была разбомблена, книги (у меня специальная библиотека до 6000 томов) лежали, выкинутые взрывной волной из шкафов, на полу, мебель, одежда, платье, белье погибли, и я стоял в морозной разрушенной комнате в оцепенении, с начинающимся воспалением легких, — я сам не знаю, откуда найдя силы в себе, приказал себе: жить и кончить свои начатые труды. И погибающий, с похеренной жизнью я вдруг начинаю оживать. И живу. Все поборол, все превозмог. Сейчас я одинок, у меня никого нет. И у меня ничего нет. Только то, в чем остался в январе, — вот в этом пальто, шапке, пиджаке и белье. И ничего больше. Правда, когда я перешел жить в библиотеку, покуда она окончательно не замерзла, у меня там оказался запас чистых воротничков».
Сейчас он пишет, заканчивает свои труды.
«Смеяться, — говорит он, — я действительно разучился, но не плакал и не плачу»…»
МОЮ ТЫ ЗЕМЛЮ НЕ ПОШАТНЕШЬ

Дни войны, они для ленинградцев были к тому же днями блокады, а еще днями обстрела, днями бомбежек. Двести девяностый, трехсотый, триста десятый, двадцатый, тридцатый… Неукоснительно вел им счет Г. А. Князев. И учительница К. В. Ползикова-Рубец. И партийный работник Гришкевич. И еще десятки людей, чьи дневники дошли до нас. Весна, а затем лето 1942 года принесли заметное облегчение горожанам. Появилось прежде всего тепло — солнце. Исчез лютый враг — мороз. Можно было согреться, не думать о дровах, можно было немножко помыться.
Снимали с окон одеяла, ковры, матрацы — все, чем затыкали, завешивали их, защищаясь от холода, — открывали забитые фанерой форточки. Солнечный свет врывался в страшные, закопченные блокадные квартиры. Паркет был выворочен, мебель изрублена, все было загажено, но свет, солнце — оно как ласка для исстрадавшихся людей. Долгая зимняя гнетуще-копотная тьма кончилась для тех, кто выжил. Люди подходили к зеркалу, вглядывались в свои неузнаваемые отражения, ужасались, и этот ужас, страх, отвращение были тоже живительным чувством пробуждения. Об этом написано у всех.
И сразу же навалилась настойчивая забота на всех горожан без исключения, без снисхождения к слабости, к дистрофии: надо было чистить город, вынести трупы из опустелых квартир, убрать завалы нечистот, улицы убрать, дворы, лестницы.
Уже в ноябре 1942 года, вспоминая о весенних работах, К. В. Ползикова-Рубец изумлена: как мы смогли? как сумели? От удивления она пишет в третьем лице, как бы со стороны:
«Невероятным было то, что они очистили эти кучи нечистот, которыми был покрыт Ленинград (я тоже участвовала в этом). Покрыли его ковром огородов, трудясь с восхода солнца до работы на заводах и учреждениях, трудясь после окончания работы. И это без водопровода, без канализации, без прачечных, почти без бань, на полуголодном пайке и под свист вражеских снарядов. Эти ленинградцы охраняли свои огороды, дежурили по ночам. И это у них воровали из-под носа или попросту грабили эти овощи, взращенные с таким трудом, тоже ленинградцы…»
Анатолий Сергеевич Болдырев продолжал свой рассказ об эвакуации из Ленинграда уже в весенних условиях:
«Подготовка к навигации 1942 года была не менее сложная задача, чем организация ледовой дороги. В распоряжении ленинградцев были жалкие остатки флота. Не было барж, причалов, буксирных судов, все было разбито. Надо было делать 600-тонные металлические баржи. Все работники горкома партии занимались организацией этого дела. На заводах готовили секции, перевозили по железной дороге до бухты. За Ладогой в заповедном лесу заготовляли лес для деревянных барж, совсем как в петровские времена. На временно сооруженной верфи построили 33 баржи… Ремонтировали оставшийся флот. Страшная работа, потому что непрерывно бомбили все подходы к верфям, к причалам, к пирсам. Люди гибли десятками. Но благодаря упорству ленинградцев, непрерывным подкреплениям программу удалось выполнить… Всего в навигацию сорок второго года (туда и обратно) было перевезено более миллиона тонн различных грузов».
А на малом радиусе Г. А. Князева тоже пригрело, зазеленело, расцветало:
«1942.V.18. Триста тридцать первый день войны. Дивный день сегодня. Вдоль набережной разрыхляют грядку для цветов, ту самую, о которой я с такой безнадежной грустью писал осенью. Я не думал, что доживу до того времени, когда на этой грядке снова зацветут цветы. Как взволновала меня длинная полоска черной, подготовленной для посадки цветов земли.
В Румянцевском сквере василеостровцы устроили огород. Разбили сад на участочки. К сожалению, много места занимают траншеи.
На солнце жарко. Сидеть бы и греться, наслаждаться жизнью! Мне сейчас очень хочется жить, мыслить, творить…
Сегодня, после 6-месячного перерыва, снова работал в своей комнате, за своим письменным столом — и не верилось этому…»
К июлю стало ясно, что Князевым надо уезжать. Но Георгий Алексеевич всячески отодвигает от себя эту мысль:
«1942.VII.6. Триста восьмидесятый день войны. Город полон слухов. Они всех волнуют. Все ожидают наступления немцев на Ленинград, полного его окружения и всех ужасов новой, насмерть удушающей ленинградцев блокады.
По улицам везут на детских колясках поклажу и идут женщины с детьми. Это выселяются в принудительном порядке. Врач, живущий на нашем дворе, отправил в Башкирию свою жену с двумя ребятишками. Весь потный, красно-багровый, катил на мальпосте тюк с вещами, а мать с ребенком на руках и с другим около ее подола шла неровным, усталым шагом.
В учреждениях составляются списки эвакуирующихся. К нам в Архив ученые несут свои рукописи.
Собрался с силами и насколько могу спокойно гляжу в глаза будущему…
Мне сообщили о полученной телеграмме жены нашего кочегара Урманчеева, матери троих детей, уборщицы Фани, что она доехала домой, но из троих ребят довезла только одного: двое умерли в дороге.
…Мой родной любимый город, где не только улицы, площади, дома, но и каждый камешек мне знаком! И что с ним сталось!
«Вот Невский… вот Морская» — писал я в дни первой блокады во время гражданской войны, пораженный разрухой города и пустотой. Лишь стаи псов иногда можно было видеть тогда на улицах, куда-то стремительно мчавшихся даже по Невскому, когда он затихал от транзитных пешеходов к вечеру. Теперь нет ни одной собаки на улицах…
И вот снова Невский, Морская… Страшный срез бомбой целого угла с крыши до основания на б. Малой Морской, теперь улице Гоголя… Неторгующие магазины с забитыми витринами, нежилые этажи или целые дома, пострадавшие от артиллерийского обстрела. Город снова в разрухе. Я второй раз переживаю то же самое. И сегодня, как 20 с лишним лет, я был в оцепенении, почти отчаянии… И успокаивал себя — ведь оправился город от той разрухи, оправится и теперь! Будет жить и процветать мой родной город. Дни страшной войны пройдут, а город останется… Мы умрем, а город останется. Город Петра и Ленина, двух гениев русского народа, никогда не погибнет. Петр приобщил через Петербург Россию к Европе, Ленин привлек Европу и весь мир к Советской России.