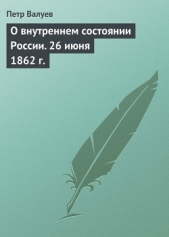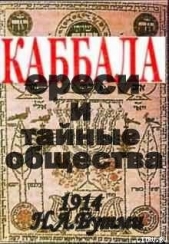Статьи

Статьи читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
27 февраля я с другим моим земляком и знакомым покойника, А. И. Н<ичипорен>ко, отправились в Академию. Дверь Шевченко была заперта и запечатана; мы догадались и пошли в академическую церковь. Там в притворе стояла белая гробовая крышка, а перед амвоном на черном катафалке виднелся гроб, обитый белым глазетом. У изголовья маленький человечек читал очень медленно и очень тихо. Я вспомнил, как год тому назад поэт хлопотал об издании псалмов, переложенных им на малороссийский язык, и всегда озабоченный заходил ко мне по дороге из Александро-Невской лавры на Васильевский остров. Теперь же ему читался один из переложенных им псалмов. Красные сторы у церковных окон, против которых стоял гроб, были спущены и бросали красноватый свет на спокойное лицо мертвеца, хранившее на себе печать тех благородных дум, которые не оставляли его при жизни. Три художника с бумагою и карандашами в руках стояли по левую сторону гроба и рисовали; две женщины с типами петербургских кухарок толковали, что и из хохлов тоже бывают умные люди и что покойник — вот майорского чина дослужился, а братья его так еще “помещицкие”. Я вспомнил г. Флирковского, законного помещика семьи умершего поэта… Вскочил какой-то кавалерист, в мундире приятного цвета, звеня шпорами и саблей, но, пройдя несколько шагов по церкви, взял саблю в руки и, приподняв каблуки, пошел на цыпочках — весь шум, производимый оружием, прекратился. В церкви опять водворилась благоговейная тишина, и раздавался только слабый голос маленького господина, читавшего над малороссийским поэтом воздыхания бибилейского поэта-царя.
28 февраля по совершении в академической церкви заупокойной обедни по рабе божием Тарасие и после отпевания по уставам церковным ближние покойника почтили его надгробным словом. Всех речей, если не ошибаюсь, было произнесено девять, — из них семь в церкви и две на кладбище. Общий смысл этих речей легко себе представить, и я не считаю нужным о них распространяться, потому что стенографировать их не было никакой возможности, а излагать их вкратце — значит портить их. Могу только сказать, что особенно сильно отозвалось в душе слушателей слово любимого нашего профессора Н. И. Костомарова и г. К<урочки>на, которому сдерживаемые слезы мешали произнесть свое короткое слово, дышавшее сердечной простотой и искренностью. Могилу для Шевченки вырыли за колокольнею кладбищенской церкви, к стороне взморья: до времени он самый крайний жилец Смоленского кладбища, и за его могильной насыпью расстилается белая снежная равнина, как бы слабое напоминание о той широкой степи, о которой он пел и которую измерил еще “малыми ногами”. В могилу был опущен дощатый ящик, выстланный в середине свинцом, но так дурно запаянный в дне, что вода набралась в него прежде, чем гроб принесли на кладбище. И на третий день лицо поэта оставалось удивительно благообразным. Огромный лавровый венок окружал его благородное чело, — в руках у многих тоже были цветочные венки, которые они принесли, чтоб положить на свежую могилу поэта. Дам было очень немного, однако женская слеза из глаз г-жи Б<елозерской> и старушки К<остомаровой> не обошла могилы Шевченко. Многие очень жалели, что нет семьи Т<олсты>х, которые любили поэта и не забывали его в самые тяжелые минуты его многострадальной жизни.
Когда крышка ящика, в который поставили гроб, была запаяна, провожавшая покойника толпа стала расходиться. Снег повалил довольно большими хлопьями, какой-то господин с папкою в руках юлил между проходящими, предлагая литографированные портреты мертвого Шевченки, старухи из богадельни канючили на упокой душеньки — на душе становилось тяжче и тяжче. Давно ли Россия схоронила Хомякова, Аксакова, и вот опять новая могила. Не стало еще одного человека, целую жизнь думавшего честную думу и умершего накануне дня освобождения 23 миллионов, между которыми и до сих пор оставались родные и близкие сердцу поэта.
Но как поэтическая деятельность Шевченко останется в числе лучших страниц малороссийской словесности, так и самый день его погребения навсегда останется знаменательным в истории украинской письменности и гражданственности. Любимейшая мечта поэта сбылась и громко заявила свое существование. Малороссийское слово приобрело право гражданства, раздавшись впервые в форме ораторской речи над гробом Шевченко. Из девяти напутствований, сказанных над могилою поэта, шесть были произнесены на малороссийском языке. Из остальных трех речей две были произнесены по-русски и одна по-польски, как бы в значение общего горя славян, пришедших отдать последний долг малороссийскому поэту-страдальцу.
У малороссийского народа, слава богу, есть теперь своя литература, есть свои ораторы, свои историки, но теперь нет у нее такого лирика, каков был покойный Тарас Григорьевич Шевченко, справедливо названный в одной из сказанных над его гробом речей “батьком рiдного слова”. Oratores fiunt, poetae nascuntur. [80]
Впервые опубликовано в газете “Русская речь”, 1861 год, 9 марта.
ПРИБАВЛЕНИЕ К РАССКАЗУ О КАДЕТСКОМ МОНАСТЫРЕ
В долголетнюю бытность покойного Андрея Петровича экономом 1-го кадетского корпуса там состоял старшим поваром некий Кулаков.
Повар этот умер скоропостижно на своем поварском посту — у плиты, и смерть его была очень заметным событием в корпусе. Кулаков честный человек — не вор, и потому честный эконом Бобров уважал Кулакова при жизни и скорбел о его трагической кончине. После того как Кулаков умер, “стоя у плиты”, на смену ему долго не было мужа с такою же нравственною доблестию. Со смертью Кулакова, при всей строгости досмотра со стороны бригадира Боброва, “просел кисель” и “тертый картофель потерял свою густоту”. Особенно повредился картофель, составлявший важный элемент при кадетском столе. После Кулакова картофель не полз меланхолически, сходя с ложки на тарелки кадет, но лился и “лопотал”. Бобров видел это и огорчался — даже, случалось, дрался с поварами, но никак не мог добиться секрета стирать картофель так, чтобы он был “как масло”. Секрет этот, быть может, навсегда утрачен вместе с Кулаковым, и потому понятно, что Кулакова в корпусе сильно вспоминали, и вспоминали добром. Находившийся тогда в числе кадет Кондратий Федорович Рылеев (14-го июля 1826 года), видя скорбь Боброва и ценя утрату Кулакова для всего заведения, написал по этому случаю комическую поэму в двух песнях, под заглавием “Кулакиада”. Поэма, исчислив заслуги и доблести Кулакова, описывает его смерть у плиты и его погребение, а затем она оканчивалась следующим воззванием к Андрею Петровичу Боброву:
Таков и есть Бобров на его единственном карандашевом портрете, “царь кухни, мрачных погребов”, “топленым жиром весь облитый, единственный герой Бобров”.
И еще один анекдот.
Бобров ежедневно являлся к директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать “о благополучии”. Рапорты эти, разумеется, чисто формальные, писались всегда на листе обыкновенной бумаги и затем складывались вчетверо и клались Боброву за кокарду треуголки. Бригадир брал шляпу и шел к Перскому, но так как в корпусе всем было до Боброва дело, то он по дороге часто останавливался для каких-нибудь распоряжений, а имея слабость горячиться и пылить, Бобров часто бросал свою шляпу или забывал ее, а потом снова ее брал и шел далее.