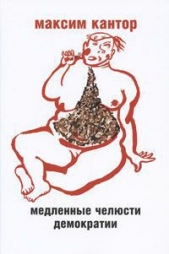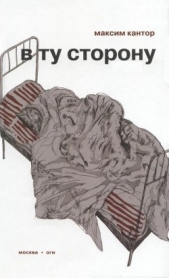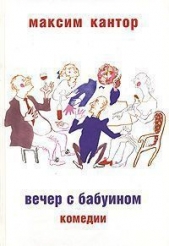Сетевые публикации

Сетевые публикации читать книгу онлайн
Работы художника Максима Кантора находятся в Британском музее, в Третьяковской галерее, во многих галереях Европы и США. Максим Кантор-писатель известен в первую очередь как автор романа «Учебник рисования», который критики назвали одновременно пособием по рисованию, антипостмодернистским манифестом, политической сатирой и философическим трактом и который вызвал в середине нулевых большую полемику. Максим Карлович Кантор часто отзывается о делах повседневных и мимолетных — к примеру, всяческих социально-политических событиях. Однако его отзывы об этом таковы, что по ним лет через дцать вполне можно будет собирать учебник по Истории. В мимолетном Кантор неизменно замечает вечное и, кажется, предпочитает именно такой способ изучения бытия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Задачи решались значительные: приезжали из-за кордона кураторы, люди напыщенные, аж из Нью-Йорка, аж из Парижа — и кураторы отечественные подле них вертелись волчком, заглядывали искательно в глаза, старались говорить на равных — мол, мы, конечно, отстаем, но и у нас есть просветы — вот, один шариков переодевается в женское платье, а другой шариков написал, что он — кабачок. Такой дряни было в те дни много, и было смешно. Намечался прогрессивный дискурс, работы непочатый край.
Иностранные кураторы кивали благосклонно, поощряли первые шаги свободомыслящих дураков, улыбались на невежество. Они и сами были такие же — с двумя классами церковно-приходской школы, неспособные различить Платона и Плотина, но об идее и благе толковали бойко. И про самовыражение, и про рынок, конечно же, про рынок — рынок это место, где цветет свобода. И звали недорослей на биеннале, триеннале и смотр достижений каканья в горшочек. Куратору — гонорар, связи, внимание. Он — идеолог и вдохновитель, Рескин, Винкельман, Буркхард нового времени — и кураторы ходили подняв голову: им выпало, как комсомольцам 20-х, строить город-сад.
Но сначала надо было вытоптать реализм. И — старались. Как страшно было в те годы признаться, что любишь рисование — точно в двадцатые годы сказать, что ты за образное искусство. Тогда бы Малевич донос настрочил, а нынче утопят в прогрессивном дегте.
Убогие зашуганные реалисты мгновенно перекрестились в новаторы, точно белые офицеры они рвали погоны при входе петлюровцев в город. Я — реалист? Да что вы! Помилуйте! Я ваш — буржуинский, я прогрессивный! Хотите — холст порву? Желаете, в углу насру? Чем преданность доказать, вашество?
А преданность надо было доказывать ежечасно — а то не возьмут на выставку, закупками обойдут, не пригласят, не отметят, а в журнальчике, спонсируемом каким-нибудь жуликом, напишут хлесткую разгромную рецензию.
И жужжали сообща — прогресс, дискурс, биеннале! И постепенно убеждение в обществе созрело: ведь и впрямь — есть оно, современное искусство! Вы не смотрите, что они придурки. Они — прогрессивные! Но точно так же думали и в двадцатые годы, глядя на квадратики.
«Кто возьмет в руки кисть и палитру, в институт не поступит», «Живопись умерла, картины нет», «из Репина что-нибудь захотели, ха-ха!», «В будущее возьмут не всех»… это все цитаты — и такого было неизмеримо много, каждый день что-то прорывное, что-то служилое. Они подзуживали сами себя, они разогревали свое невежество, упивались триумфом — а стариков гнали поганой метлой! Поделом, поделом тебе, замшелый реалист! И соцреалисты мерли по своим пыльным мастерским — кому вы теперь нужны, убогие!
О, ненавистный МОСХ!
Правда ненавидели не всех — кураторы нового типа легко и незаметно подружились с Церетели, с самым начальственным и генеральским бонзой, ему вылизали задницу, а с его племянником закорешились: он же свой, адекватный человек. А вот пожилых реалистов, всех этих бытописателей — ух, этим мастодонтам пощады не дали! Два поколения несчастных мазил прихлопнули, как мух; но вот к Церетели — с вибрацией позвоночника, с теплой улыбочкой, и — в академию, на зарплату. Это сочеталось отменно: служба в академии, где со времен передвижников русскому художнику зазорно появляться, — и номенклатурное новаторство.
Каждый из них по отдельности был слаб и глуп, но вместе стали грозной силой — новый сервильный авангард.
А сейчас их пора прошла.
Сейчас обнаружилось — ровно как тогда, с фашиствующим Малевичем и барабанщиком Родченко — что у начальства имеются иные планы. На Западе — кризис, гранты увяли, лондонское ворье коллекционирует не бойко, отечественные прогрессивные бандиты сидят тихо.
И вот появляется потребность совершить поступок, настало время «личного выбора»!
Все-таки есть еще интеллигентная позиция в наши дни: и, надо сказать, возникает интеллигентная позиция у комиссаров ровно тогда, когда в их услугах пропадает нужда.
А время прошло.
За это время замордовали российскую культуру — и многие из тех, кто мог работать, уже умерли. И многие умерли в безвестности и в нищете. За это время вели войны и убивали людей, разоряли страну и унижали стариков. За это время разучились говорить. А кураторы хихикали.
И в точности, как тогда, в двадцатые — оглядываешься на преступления и руками разводишь: вы разве протестовали? Это вы теперь с белыми ленточками ходите. А предыдущие двадцать лет вы где были? Да ведь это вы сами все и сделали.
Тьфу.
Завтра (20.07.2012)
Есть такая существенная компонента мышления — инерция стиля. Мышление будто бы происходит, но буксует, воспроизводит имевшие место аргументы. Когда все выработано — мысль не исчезает, просто делается пустой, инерционной.
Вот простейший пример — до сих пор продолжают ругать Сталина, хотя тиран давно умер, не определяет ничего в современном мире, и даже сталинизм (если бы таковой существовал реально) ничего не определяет.
Но бороться с тираном комфортно, это оставляет приятное послевкусие независимой мысли. На деле это трафаретная мысль, а трафаретное мышление — удобный материал для манипулирования людьми.
Защиты от инерции стиля и трафаретного мышления в принципе нет. Если речь идет о социальной модели поведения, то помогает интуиция: вдруг чувствуешь — здесь ловушка; перед тобой разрешенная мысль, а значит, — надо искать в другом направлении.
Особенность чувствовать социальную ловушку — была в сильной степени развита у Зиновьева, например.
И еще несколько людей с таким вот обостренным чувством разрешенного, а, значит, и неточного пути — я встречал. Это такое специальное чувство социальной опасности и подвоха.
Году в 92-93-м — и это даже с опозданием, умные протрезвели раньше — стало стыдно ругать Советский Союз. Можно было почувствовать, что эта брань открывает двери куда большему злу. И двери злу открыли.
Потом началось время борьбы и противостояния идеалов: цивилизаторов, компрадорской интеллигенции — и патриотов. Очень трудно было не примкнуть вообще ни к кому.
Но либерально-демократическая компрадорская публика была намного противнее: они помогали убивать страну.
В этот последний год — данная публика стала совсем отвратительна — но одновременно случился некий комедийный сбой напряжения. Актер поскользнулся, зал рассмеялся. Произошло сращивание, очевидное скрещение компрадорской интеллигенции с номенклатурой. Интеллигенты вышли замуж за правительственных чиновников, активисты легли в постель к богатым проституткам, династическими адюльтерами скрепили союз капитала и вранья.
Ругать их стало слишком легко.
И тут, как и в случае с критикой сталинизма и партийной советской риторики, вдруг стало неинтересно их бранить.
По-моему, произошло это прямо сейчас — возможно, неделю назад.
Нет, они не изменились — они такие же противные и пустые, как и раньше. Эхо Москвы, Новая, Грани, Латынина-Акунин-Пархоменко-Немцов-Собчак — это все так же равномерно глупо и равномерно пусто. Концептуализм, Деррида, пожилые юноши авангардисты, вся эта пустозвонная болтовня — они всегда будут пустозвонами.
Лучше не станут никогда, фальшивы навсегда.
И тем не менее — вдруг стало неинтересно их ругать.
Как некогда с Советской властью — все ругают, а мне расхотелось. Слишком очевидно.
Это не значит, что я тогда, в 91-м, полюбил Советскую власть — я ее не люблю. Но ругать расхотелось, это несвоевременно. Когда она была сильна — ругал. А что сейчас?
И так же с белоленточным филистерством. Я их бранил, когда пройдохи были в силе, когда цвели и пахли. А что теперь?
Повторяю — лучше они не стали и не станут.
Это пустая, дрянная публика.
Но их время прошло. Не в них дело. И бороться с ними уже не незачем. Их нет.
Идет нечто иное.
Да, это они, филистеры и либералы — спровоцировали приход такого специального нового зла. Но что теперь выяснять. Поздно.
Про них уже неинтересно. Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов.