Бескорыстие
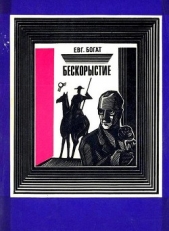
Бескорыстие читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А когда в Чайковском удостоверились, что за легендой стоит реальность — четыре тысячи полотен, местная общественность повела дело настолько целеустремленно и энергично, что теперь уже не Жигалко наступал, а его самого осаждали: «Берем, устроим музей, это — наше, наше!» Сообщения сыпались на него без перерыва: нашли двести сорок квадратных метров… решили мало… нашли девятьсот квадратных метров, началась реконструкция… строителей выделил воткинскгесстрой… текстильный комбинат готовит портьеры… весь город строит музей!
И в этих сообщениях не было восторженного пустословия: город действительно строил, точнее, перестраивал старый дом, создавая «нашу Третьяковку». Новую картинную галерею Чайковский открыл в день рождения Александра Семеновича Жигалко — ему исполнилось восемьдесят четыре года. Его поздравили пятьдесят тысяч человек. День его рождения отпраздновал город.
Было это в феврале; в залах «местной Третьяковки» выставили две тысячи полотен. Остальные две тысячи оставались в Новосибирске. Александр Семенович собрал душевные силы и написал в Академгородок письмо о расторжении дарственной, ибо не выполнено основное ее условие: «показ картин народу». В этом письме он сообщил о рождении постоянной галереи в Чайковском… «Мое сокровище нашло родной дом». В июле Жигалко получил ответ: «Мы готовы вернуть Вам Ваш дар».
Брюллов, Репин, Левитан поехали в последний раз — из Новосибирска в Чайковский.
И опять я сижу в его комнате (он переехал недавно в новый дом, тот, где хранились десятилетия четыре тысячи полотен, пошел на слом), сижу за столом, заваленном бумагами, по-прежнему листаю их, перечитываю.
Александру Семеновичу все еще нездоровится, изредка обмениваемся замечаниями, а больше думаем. Я думаю о том, что Жигалко совершил удивительное, завершившее собой его жизненный путь, путь к истине. Уже на излете жизни он осуществил ту великую переоценку ценностей, которая сообщила его бытию высший смысл. Все помыслы его сейчас в Чайковском. О былых мытарствах он говорит полушутливо:
— Нетерпелив я был. Надо было подождать, попросить, поклониться, задобрить, а я резкие письма писал.
— Задобрить? — удивляюсь. — Ведь вы же дарите?
— Ну и что ж что дарю. Бывают подарки и обременительные.
— Но вот же Чайковский не нужно было задабривать.
— Чайковский, — улыбается, — чудо.
Я опять листаю письма из Чайковского, в которых содержатся старательно переписанные строки из книги отзывов.
«Рабочие Ижевского металлургического завода благодарят Александра Семеновича за чувство возвышенного, которое его картины дарят каждому».
В разговоре со мной один из коллекционеров назвал Жигалко Дон-Кихотом. В душевном «зерне» и внешнем облике его действительно есть что-то подкупающе-явственное от «рыцаря печального образа». (В несоизмеримо большей степени, чем в Гаврилове, который похож на героя Сервантеса только «безумной дерзновенностью».) Жигалко сухопар, высок, часто поверх собеседника рассматривает что-то видимое ему одному, его медлительность, даже некоторая заторможенность порой резко обламывается порывистым жестом, быстрым ритмом речи, как у человека, который, мешкая перед дорогой, решившись наконец, не идет, а бежит по ней.
Я опять оглядываю стены его комнаты, на которых висит то неотрывное, что он себе из четырех тысяч оставил. И угадав мои мысли, Жигалко говорит:
— А Николая Петровича Кузьмина вы не осуждайте за то, что он в том письме потребовал это, последнее… Он удивительный человек, ему сесть в поезд… — и понизив голос, — я беспокоюсь, уж не собственные ли деньги он мне посылает, ведь получаю из Чайковского почти ежемесячно шестьдесят.
Пенсия А. С. Жигалко — шестьдесят два рубля десять копеек.
Те два из неотрывных полотен (Серов, Боровиковский), что сунул он Кузьмину в последний раз, — думал я, — чем-то по самой сути действия родственны письму в МПС с мыслями сорокалетней давности, которые могут сегодня послужить людям.
Страсть собирать уступила в этой жизни иной, высокой страсти — отдавать.
Наступило ясное понимание того, что собирательство без венчающего действия — от себя — бессмысленно. И в этом урок жизни, о которой я пишу. Наверное, высокое желание отдавать нельзя называть страстью именно в силу этого высокого понимания, ибо давным-давно было отмечено, что страсть — стремление, не повинующееся разуму; потребность же одарить мир и людей — глубоко разумна, ее питает мудрая мысль об единстве «общины» и личности, человека и мироздания.
Петрарка писал в одном из сонетов о горечи «позднего меда»; это относится не только к любви, но и к меду поздней мудрости. И не от этой ли горечи та самая ирония, которая была не полностью понята мной, но явственно ощутима в первой беседе с Жигалко. Почувствовав однажды иронию жизни, он, несравненно поумнев, сумел обратить ее на себя.
Но мудрость остается мудростью, и она говорит устами Жигалко: «Собирательство без дара — болезнь».
Особенность этого характера и этой судьбы в том, что его дар людям оказался и выявлением собственного дара; — человек понял, что, «зарывая в землю» картины, он, в сущности, зарывал и себя, зарывал талант.
Не сомневаюсь, что Александр Семенович удивился бы совершенно искренне, если бы я в тех немногословных диалогах с ним назвал его «государственным человеком». Но эта точная и строгая формула рядом с его именем ничуть не удивит жителей Чайковского: для них он, человек, подаривший их городу картинную галерею, именно государственный человек, гражданин.
В его непростой судьбе мы тоже находим подтверждение живого сегодняшнего родства этих рожденных в различные эпохи определений: «рыцарь» и «государственный человек».
Рыцарями не только «рождаются» (Гаврилов), но и «делаются» (Жигалко).
И тут я хочу раскрыть читателю небольшой секрет, имеющий непосредственное отношение к творческой лаборатории автора настоящего повествования. Книга «Бескорыстие» была уже закончена, когда я, перечитав ее, ощутил потребность написать эту главу о пути к истине, к рыцарству. Мне показалось, что читатели, возможно, подумают: рыцарями только рождаются и быть ими в силу этого полученного от рождения таланта, несмотря ни на что, легко и радостно; подумают, что бескорыстие не требует напряженной, порой мучительной душевной работы, нравственного выбора, борьбы с сомнениями, малодушием, страстями…
Подобное восприятие книги бесспорно понизило бы ее педагогическую ценность. Вот я и решил написать эту главу. Бескорыстие — любое — даже у тех, кто одарен щедростью сердца с детства, сопряжено с работой души, с умением ощутить, понять в системе жизненных ценностей самое существенное. И когда работа эта ослабевает, то и люди, даже, казалось бы, добрые, широкие, меркнут, тускнеют, мельчают.
Разумеется, человек может — мы наблюдаем это в жизни то и дело — совершить бескорыстно нечто великолепное чисто импульсивно, повинуясь бессознательно сильному удару сердца. Но если это не один «удар», а логика и линия жизни, обыденный стиль существования, будни, то тут без труда души ничего не получится. «Не позволяй душе лениться! — писал замечательный советский поэт Николай Заболоцкий. — Чтоб в ступе воду не толочь, / Душа обязана трудиться / И день и ночь, и день и ночь». И дальше, — о ней же, о человеческой душе: «А ты хватай ее за плечи, учи и мучай дотемна…»
Иначе… Ведь возможен еще один тип рыцаря, — помните у Пушкина? — Скупого Рыцаря.
Что же такое Скупой Рыцарь сегодня?
Владимир Николаевич, маститый столичный архитектор, был нездоров и давал мне интервью у себя дома. Кратко и точно, пожалуй, даже суховато рассказывал он о новом городе, который будет построен на берегах тихой реки в глубине России.
Я слушал Владимира Николаевича и старался увидеть этот город хотя бы туманно, в общих чертах, как видишь на рассвете из самолета, косо идущего на посадку. Но мне мешал стиль рассказа моего собеседника: об архитектуре он говорил мало, сосредоточенно излагая технические вопросы — водоснабжения, организации транспорта, инженерной подготовки территории. Лицо его было бесстрастно, руки безукоризненно точны — он, не глядя, находил нужный лист в ворохе чертежей, голос негромок, чуть монотонен. Один раз он все же улыбнулся, когда я попросил его подробнее рассказать об архитектурном облике города, — терпеливо и понимающе, как улыбаются детям. Ответил: «Дома типовые, пятиэтажные, самые экономичные, планировка по возможности современная», — и дотронулся пальцами до горла, напоминая, что нездоров и что интервью затянулось.
























