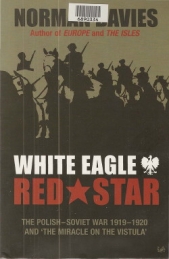Варвар в саду
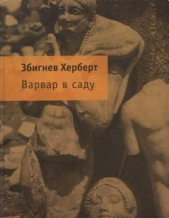
Варвар в саду читать книгу онлайн
Збигнев Херберт (1924–1988) — один из крупнейших польских поэтов второй половины XX века, драматург, эссеист. «Варвар в саду» — первая книга своеобразной трилогии, посвященной средиземноморской европейской культуре, увиденной глазами восточноевропейского интеллектуала. Книга переведена практически на все европейские языки, и критики сравнивали ее по эстетической и культурологической значимости с эссеистикой Хорхе Луиса Борхеса.
На русском языке проза Збигнева Херберта публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Провансальский Вергилий писал не только поэмы, стихи и трагедии. Он также редактировал журнал «Провансальский календарь», переживший своего создателя, трудился над унификацией провансальской орфографии, а кроме того, является автором труда, над которым в наше время работал бы многочисленный штаб ученых. Два огромных тома in quarto (более двух тысяч страниц) носят название «Lou Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire provencal-française» [11]. Но это отнюдь не обычный словарь, а настоящая провансальская энциклопедия, которая наряду с внушительным лексико-грамматическим материалом содержит исторические заметки, описание обычаев, верований и установлений, а также собрание загадок и пословиц.
Мистраль был не только замечательным поэтом, но и темпераментным общественным деятелем. Благодаря ему «Фелибриж» из кружка веселых литературных собутыльников превратился в организацию, целью которой стало сохранение языка, свободы и национального достоинства провансальцев. Демонстрация культурной особости все явственней и несомненней становилась политическим движением. По прошествии времени делается все, чтобы затушевать контуры этой борьбы.
В 1905 году потомок трубадуров Мистраль получает наивысшую литературную награду, но не из рук прекрасной владелицы замка, а в соответствии с завещанием изобретателя динамита. Нобелевскую премию он отдает на создание этнографического музея, посвященного Провансу. Музей до сих пор находится в Арле, в ренессансном дворце Кастельяне-Лаваль, потому что это было любимое место автора «Мирей». Вспоминая свои первые шаги, он пишет: «В ту наивную пору я совершенно не думал о Париже. Лишь бы Арль, который всегда виделся на моем горизонте, как Вергилию Мантуя, когда-нибудь признал мою поэзию своей».
Площадь Форум, вопреки своему названию, маленькая, тихая, со стайкой деревьев посередине. Две коринфских колонны и кусок архитрава вмурованы в стену довольно уродливого дома как доказательство, что когда-то здесь все было по-другому.
На площади в тени платанов памятник Мистралю, очень тщательно изображающий поэта — его широкополую шляпу, изваянную словно бы с мыслью о голубях, красивую бородку, пуговицы на жилете и даже шнурки ботинок. На открытии памятника самолично присутствовал тот, кому он был воздвигнут. Вместо речи он продекламировал первые строфы «Мирей».
Дожил он до преклонных лет, и судьба подарила ему спокойную смерть в преддверии первого великого мирового кровопролития. К концу жизни он уже был живым памятником, которому оказывали почести, точь-в-точь как Гете в Веймаре, и не только поэты и снобы, но даже сам президент республики.
Чем был Мистраль для «Фелибрижа», убедились после его смерти. Организация начала уменьшаться, провинциализироваться и рассыпаться. Еще происходят съезды, выходят провансальские журналы, авторы пишут, но все это лишь бледное отражение энтузиазма и размаха первых фелибров. Прованс уже не является тем экзотическим краем, каким он был в эпоху романтизма. Парижские издатели не ждут появления нового Мистраля. Уж не был ли он последним трубадуром?
Il Duomo [**]
Друг-поэт говорит: «Едешь в Италию? Обязательно загляни в Орвието». Смотрю в путеводитель: только две звездочки. «А что там имеется?» — спрашиваю. «Большая площадь, на площади трава и собор. В соборе „Страшный суд“».
Когда выходишь из поезда на маленькой станции между Римом и Флоренцией, города не видно, он располагается несколькими десятками метров выше и скрыт отвесной вулканической скалой, точно еще не завершенная скульптура мешковиной.
Фуникулер (такой, каким поднимаются на Губалувку {45}) выбрасывает пассажиров около Порта Рокка. До собора идти еще около километра, так как в этом городе самое главное сокрыто в самой середине и предстает внезапно.
Собор стоит (если только этот неподвижный глагол подходит к тому, что раздирает пространство и вызывает головокружение) на широкой площади, а расположенные вокруг многоэтажные строения через минуту меркнут, и их просто перестаешь замечать. Первое впечатление не отличается от последнего, и доминирующее чувство — невозможность свыкнуться с этой архитектурой.
Роб-Грийе {46}, мастер инвентаризации, написал бы, наверное, так: «Я стоял перед собором. Длиной он был сто метров, шириной сорок, а высота фасада по центральной оси достигала пятидесяти пяти метров». Правда, из подобного описания никакой зримой картины не возникает, однако пропорции здания свидетельствуют, что мы находимся в Италии, где стрельчатая готика Иль-де-Франса была переплавлена в абсолютно своеобразный стиль, а общее название используется лишь по дурной хронологической привычке (все, что происходит в тот же самый период, следует окрестить общим термином).
В орвиетанском музее при соборе хранятся два пергамента (пожелтевшие, поврежденные, как будто их медленно переворачивал огонь), которые приводят в сильнейшее возбуждение историков искусства, изучающих «Fasaden-problem» [13]. Оба рисунка представляют тот же самый фасад орвиетанского собора и являют собой яркий пример смены вкусов. Хронологически первый, с пометкой «manu magistri Laurenti» (рука мастера Лоренцо), то есть Майтани {47} (хотя ряд авторов высказывает на этот счет сомнения), исполнен еще в северном вкусе. Средняя часть фасада собора над главным порталом мощно акцентирована, преобладают вертикальные линии и остроугольные треугольники. Второй рисунок приносит принципиальные изменения: оба боковых элемента фасада повышены, появились горизонтальные линии, композиция утратила стрельчатость, зато обрела определенную приземистость, однако прежде всего оказалась значительно увеличена поверхность фасада, дабы цвет и орнамент во всем великолепии и пышности сумели придать ирреальность этой архитектуре.
Итальянцы XIV века смотрели на французские соборы, вероятней всего, как на творения великолепные, но чуждые. Суровые громады, напряжение вертикальных линий, бесстыдное обнажение костяка и жесткая экзальтация камня не могли не возмущать латинскую приверженность к кругу, квадрату и прямоугольному треугольнику, то есть к чувственному и слегка грузноватому равновесию. И это была проблема не только вкуса, но также и мастерства. Наиболее шовинистские французские историки искусства рассматривают итальянскую готику как неумелое восприятие собственного открытия, и, по мнению Луи Ро {48}, Миланский собор, творение многих веков и многих художников, является наиболее характерным признанием бессилия итальянских архитекторов.
Но для них готические строения Севера были творением иной природы, и смотрели они на эти сооружения, наверное, даже с оттенком страха, примерно как на конусы термитов. Для итальянцев фасад был красочной процессией, немножко даже чрезмерной, неким подобием оперы с хорами изваяний, мозаик, пилястр и башенок, а Орвието, наверное, является одним из самых поразительных примеров живописной концепции архитектуры. И именно это вызывает трудную для передачи смесь восхищения, замешательства и полнейшей потерянности в лесу цветных камешков, волнистых плоскостей цвета бронзы, золота и лазури.
Самой старой частью фасада являются четыре цикла барельефов, создававшиеся многими скульпторами, главным образом пизанскими и сиенскими, — четыре огромных страницы общей площадью сто двенадцать квадратных метров, которые читаются слева направо и повествуют о Сотворении мира, генеалогии Давида, деяниях пророков и Христа, а также о Страшном суде.