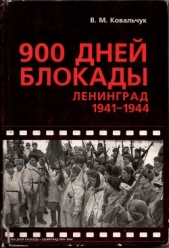Блокадная книга
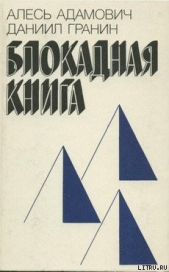
Блокадная книга читать книгу онлайн
Переиздание широко известного произведения, в котором, основываясь на большом фактическом материале — документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, — авторы рассказывают о мужестве защитников города, о героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Голод все больше давал о себе знать. Уехать из Ленинграда мы не могли, имея у себя все картины, все рукописи брата и не имея сил отдать их на хранение.
Работали мы это время в госпитале, где сейчас помещается Институт Герцена, на Мойке. Устроила сестру на работу Анжела Францевна (фамилию ее я не знала), жившая в одном с нами доме. Сделав это, она буквально спасла нас. Вскоре сестре удалось и меня устроить туда же. Мы получили две рабочие карточки! Это было настоящее счастье! Но это было уже поздно, так как, немного подкрепившись, вскоре мы почувствовали, что и этого мало. К тому же у сестры украли талоны на хлеб, к счастью, только те, которые давали право получать часть хлеба на работе. Сестра ничего об этом мне не сказала, чтобы я не стала делиться с ней своим хлебом. Сестра была удивительный человек, отдавший всю свою жизнь сестрам. А мне она была и сестра, и мать, и друг. Понятно, кража карточки сразу сказалась на ее состоянии. А я, не понимая причины, не знала, что делать. Да и что можно было тогда делать? Только эвакуироваться. Но как, если у нас на руках все наследие брата?
И вдруг неожиданно с фронта приехал Виктор Васильевич — муж нашей племянницы. Семья его была уже эвакуирована, и он зашел узнать, живы ли мы. Увидев нас, он сразу же спросил: «Почему же вы не уехали, почему до сих пор в Ленинграде?» Мы сказали, что уехать не можем, так как у нас на руках картины и рукописи брата. Когда же из дальнейшего разговора он узнал, что у нас нет сил донести картины до музея и нет никого, кто бы помог нам, и в этом весь вопрос, он сказал, что может помочь нам. Он приехал с фронта в командировку, и сделать это надо тотчас же.
Работы брата, давно уже упакованные, лежали в этой же комнате, где шел этот незабываемый разговор. Упакованы они были так: один пакет с 379-ю работами и рукописями и второй — вал, на нем накатано 21 полотно. Когда мы поняли, что это может быть отнесено в музей, и сейчас же, счастью нашему, радости не было границ. Он взял и понес вал, а я, оказывается, пакет, в котором лежало 379 работ! Узнала я о том, что несла пакет, через двадцать пять лет. А в течение этих лет я была уверена, что пакет нес кто-то, а я только шла с ними.
Узнала об этом зимой 1967/68 г. Вот каким образом. Я собираю все, что могу собрать о брате, чтобы все это, собранное мною, присоединить к тому, что сдано в ЦГАЛИ в Москве… Но предварительно я сделала фото со всех этих рукописей, а с этих фото микрофильм. Я как-то попросила Виктора Васильевича написать о том, как это все тогда, в блокаду, происходило. Он исполнил мою просьбу и передал мне написанное им. Каково же было мое недоумение, когда я прочитала, что «второй, легкий пакет несла Евдокия Николаевна». Сейчас же я позвонила ему и переспросила, уверенная, что он ошибся, но ошибки не было. Откуда же взялись силы?! Он пишет: «Второй, легкий пакет несла Евдокия Николаевна». В этом «легком» пакете лежало 379 работ, три из них на подрамниках, и рукописи!
До сих пор я не могу представить себя той поры, несущую эту тяжесть. Я не поверила ему, долго расспрашивала, но все было так, как он написал… Что же произошло? Неужели радость, что все сделанное будет спасено, будет в музее, и мы можем наконец эвакуироваться, так как сестре становилось все хуже, дала мне силы, но отняла память?..»
Откуда силы брались у ленинградцев, об этом рассказала нам дневниковая память Ленинграда, сами же ленинградцы. Верящие и не верящие, что все это было, что могло быть. И познавшие цену жизни и тепла, хлеба и человеческой солидарности, всего, что человек не умеет как следует ценить, пока это есть у него…
ОБЯЗАННОСТИ ИСТОРИКА

Дневник Г. А. Князева где-то на четырехсотых страницах (а всего их 1200 машинописных) начинает превращаться в мартиролог: жизнеописание тех, кто на его малом радиусе умер, замученный голодом, блокадой. Но это одна сторона его записей. Чем больше и подробнее о мертвых, тем радостнее записи о живом, о красоте и богатстве жизни, спрессованной в остающиеся блокаднику недели, дни. И в то же время растянутой — каждая секунда нагружается ощущением: а все-таки живу, живем, что-то получаем от жизни, гораздо больше, чем в обычное, обыкновенное время, когда и месяцы и годы не ценили, ни во что не ставили! Именно в это время в «Февральском дневнике» Ольга Берггольц писала: «…такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали».
Чем больше обесценивает голод, блокада человеческую жизнь, тем важнее и дороже она для гуманиста Князева. В первые дни, недели войны в своих записках не всегда бывал справедлив, не всегда щадил окружающих: слишком давали о себе знать сложные отношения в ученой среде. Сейчас о тех же людях, о тех же фактах судит мудрее, человечнее, различая вину и беду человека. Это не всепрощение. Это понимание. Что значат вчерашние страсти, порой мелочные, низменные, если всех по очереди забирает «первый миллион» умерших?! В каком, в первом или втором, окажешься ты сам?
«1942. 1. 13 и 14. Двести шестой и двести седьмой дни войны. Вчера и сегодня передают по радио речь Попкова: «Все худшее позади. Впереди освобождение Ленинграда и спасение ленинградцев от голодной смерти». Так передают из уст в уста содержание этой речи. Сам я ее не слыхал: радио у нас не работает.
Люди живут последней надеждой… Январь, дескать, может быть, дотянем, но февраль, если не будет улучшения, не пережить. Ослабевшие гибнут и гибнут».
Верный своему «заданию»: не позволять блокадной мгле (хотя бы на его малом радиусе) сразу же стирать память о погибающих, — Г. А. Князев рассказывает о всех умерших, близких и дальних знакомых, людях, которых и имени никто и никогда не вспомнит. Ни один из них не попал ни в список 607 награжденных, ни в список «геройски погибших». Он готовится и свое имя занести в поминальник, пока еще в состоянии это сделать. С той же добросовестностью и объективностью записывает он плюсы и минусы Князева Георгия Алексеевича.
«1942. I. 18. Двести одиннадцатый день войны. Раз кругом валятся люди, стал и я приводить свои дела и бумаги в порядок на всякий случай. Сегодня я закончил систематизацию всех моих материалов сперва на бумаге; по этой схеме подберу все мои папки.
Главная цель и значение моего архива — материалы для истории быта среднего русского интеллигента в дни войн и революций первой половины XX века. Среди этих материалов на первом месте должны быть поставлены: «К истории моего времени», записки и приложения к ним, как рукописные, так и печатные…
1942.1.19. Двести двенадцатый день войны. В Ленинградском отделении Института истории гибнут один за другим научные сотрудники. Умер мой сотоварищ по университету Лавров. Он так же, как и я, служил в Центрархиве (в областном ленинградском Архиве), потом перешел на работу в Академию наук. Заведовал одно время Историческим архивом в Институте истории АН в Ленинграде. Много поработал над последним академическим изданием «Русской правды», был исключительно скромен и как-то мало приспособлен к жизни. За страшную черту перешел в начале января. Ослабевши, лежал беспомощным полумертвецом, покуда жизнь не оборвалась окончательно.
…Вчера М. Ф. мне призналась, что она устает. Действительно, она очень похудела, а за последние дни побледнела. Только еще темные глаза горят светлым огнем.
Сколько мы потеряли сил, на какой грани находимся, где черта, та страшная черта, переступив которую человек уже не возвращается назад. Взяли за нормальное состояние 100 %, провели страшную черту — 50 % жизненной энергии, и М. Ф. определяет свое место между 40 и 50 процентами, т. е. где-то около страшной черты.
После потери 50 % сил начинается быстрое затухание и после 60–70 процентов утраты их — агония и смерть.
— Надо как-нибудь выжить, — настойчиво говорит М. Ф., — не перейти за роковую черту.
1942 I. 21 и 22. Двести четырнадцатый и двести пятнадцатый дни войны… Второй день из-за морозов не езжу на службу; не идет коляска, масло стынет. М. Ф. проводить меня не может туда и обратно, силы ее заметно слабеют, бодра только духом.