Публицистика
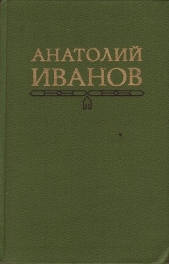
Публицистика читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наше время особенно характерно тем, что действительность врывается в книги, учит нас, подсказывает, в каком направлении следует художнику вести познание темы.
Не много найдешь в мировой литературе книг, которые могли бы по своей художественной ценности соперничать с шолоховскими «Тихим Доном» и «Поднятой целиной». Я учился, читая эти романы, лепке характеров, образной сочности языка, точности.
Я получаю много читательских писем, и нередко меня спрашивают о том, как рождаются произведения, каким образом писатель исследует действительность, что самое главное в его работе? Я, разумеется, не собираюсь давать каких-то советов и рецептов. Выскажу только несколько соображений, опираясь на свою практику.
Нередко думаю о том, что глаз писателя должен быть устроен особым образом. Надо уметь видеть. Видеть то, что другие не замечают или воспринимают сугубо поверхностно. Можно, например, сказать, что у героя — сильные руки. Эта особенность весьма существенна в характеристике персонажа. Но читатель может равнодушно отнестись к этой детали, пройти мимо нее. Вот здесь-то на помощь и должен прийти писательский острый глаз, который все увидит, рассмотрит, а может быть, и оценит по существу. Только тогда читатель также увидит руки героя, почувствует их силу. Но, повторяю, писатель обязан продемонстрировать на деле всепроницаемость своего глаза. Позволю себе привести сцену из своего первого романа «Повитель», написанного давно, воспринимаемого на расстоянии лет таким образом, словно его писал вроде бы кто-то другой. Впрочем, судите сами. Руки — вот что я стремился показать в этом «куске»:
«Странные это были руки. Длинные и тонкие, они кончались широкими, как лопата, мозолистыми ладонями. Страшная сила таилась в них. Гришка легко завязывал в узел гвозди, вызывая восхищение и зависть локтинских мужиков. Взяв в правую руку палку, он левой обхватил ствол дерева и проговорил, обращаясь к сидевшим парням:
— А ну, двое кто-нибудь, которые посильнее, держите. Выдернете — рубль отдаю. А нет — с вас по целковому.
Принять вызов Гришки Бородина никто не торопился. Наконец двое поднялись, поплевали на ладони. Но сколько ни дергали — ничего не добились. Казалось, палка была зажата не в руке Григория, а в чудовищной силы клещах…
— Вот так! — проговорил он. — Что уже возьму — намертво. Никто не выдернет, не отберет.
— У тебя вся сила в руках, как у рака в клешнях, — заметил Андрей Веселов, рябоватый парень с густыми и жесткими, как конская грива, волосами. — А ударь тебя щелчком по лбу — ты с копыт долой… Только в воздухе ногами брыкнешь.
— Я те ударю, — вдруг зло огрызнулся Григорий. Его небольшие круглые глаза недобро поглядывали откуда-то из глубины, из-под нависшего плоского лба, ноздри раздувались, а нижняя челюсть неестественно вытянулась вперед».
Писателю приходится не рассказывать, не декларировать, а рисовать, чтобы читатель сам стал свидетелем и даже соучастником событий, чтобы он почувствовал себя стоящим на деревенской улице, чтобы своими глазами увидел парней, готовых схватиться в драке, чтобы вся атмосфера, окружающая героев романа, стала атмосферой, в которую погружается и тот, кто держит книгу.
Расскажу вкратце об истории своих книг. Мой путь к роману сложился и просто и нелегко, к этой форме я пришел неожиданно даже для самого себя.
Будучи молодым человеком, работая в Сибири, в районной газете села Мошкова, я, как и многие, увлекся литературными опытами. Большой радостью для меня в 1954 году явилось появление рассказа на страницах журнала «Крестьянка». Рассказ назывался «Дождь» и был посвящен зарождающейся любви. В нем было много наивностей, и настоящим началом литературной работы я считаю рассказ «Алкины песни», появившийся в 1956 году в журнале «Сибирские огни». Именно тогда я впервые почувствовал какую-то внутреннюю раскованность, начал понимать, как надо писать. Но особенно для меня важно было то, что я понял значение характера в художественном произведении. Как бы мы ни писали, как бы ни воспроизводили виденное — произведение мертво, если герой или героиня не обладают характером.
«Сибирские огни» — колыбель многих наших писателей, и я своим литературным рождением обязан этому превосходному журналу. Первый успех окрылил меня, и я принялся работать над произведением, в котором мне хотелось показать, как человек преодолевает растлевающее влияние собственничества, то есть продолжить на своем сибирском материале раскрытие темы, которой столько внимания уделил в свое время Максим Горький. Главная художественная идея произведения, названного «Повитель», заключалась в том, чтобы показать, как время изменяет людей. Сначала сюжет «Повители», конечно, в самых общих и схематических чертах, был изложен в рассказе, который я понес в «Сибирские огни». Разговоры в редакции убедили меня в том, что за пределами рассказа остались мои знания изображаемых людей, того, что сделало героев такими, какими я их написал. Чем больше я размышлял на эту тему, тем яснее мне становилась необходимость раздвинуть временные и пространственные рамки произведения, увеличить количество сцен, а также картин и персонажей. Углубленная работа над обрисовкой характеров и привела меня в конце концов к романной форме.
Я хотел добиться того, чтобы мои герои были увидены читателями во всей своей жизненной яркости. Однажды, размышляя на берегу реки в одиночестве, я нашел, как мне кажется, необходимую метафору, которая обозначила бы то, что жило в моей душе и просилось наружу. «На первый взгляд голыши, обильно усыпавшие берег, вроде одинаковые по цвету и по форме. А расколешь камень, другой, третий — и видишь: до чего же они разные! У одного по всему сколу поблескивают на солнце, горят и переливаются крупные, золотисто-голубоватые блестки. Другой тускло и маслянисто отсвечивает срезанным как по линейке боком. А третий, оказывается, был насквозь изъеден какой-то буроватой ржавчиной: от легкого удара он рассыпается на несколько частей, выбросив, как пересохший табачный гриб, облачко пыли». Так и мне хотелось заглянуть в душу каждого своего героя, увидеть, чем он живет, что его радует, мучает, возвышает или унижает. Человек действует в сложном и противоречивом сцеплении обстоятельств, в которых проявляются общие закономерности времени. Поэтому человека — для того чтобы пристально рассмотреть его душевные движения — надо было увидеть среди других людей, в действии. Таким образом, происходило сложное взаимодействие человека и обстоятельств, формирование душевного строя, который, словно чуткий музыкальный инструмент, реагирует на все события, встречи, происшествия.
Я родился в Восточном Казахстане, граничащем с Сибирью, и село наше было типично сибирским, и я хорошо знал героев, о которых мне приходилось рассказывать, до мельчайших тайн и сокрытностей. У меня не было никакой внутренней потребности «дополнительно» изучать материал, ибо все, что было с героями, зримо, рельефно, вполне очевидно стояло перед моими глазами. Я знал и характерные словечки, которыми обменивались персонажи.
Шаг за шагом прослеживал я пути и перепутья героев для того, чтобы произнести над ними справедливый и окончательный суд, воздать за добро и зло, которые в жизни никогда не являются абстрактными, отвлеченными категориями. Всей художественной системой образов подводил я читателя к правде, которая прозвучала в словах Тихона Ракитина: «Всю кровь, все мозги изъела ему жажда собственности. Сперва из человека превратила в зверя, а потом так оплела, что все соки выжала, высушила. Так вот повитель обовьет молодое растение, пьет из него соки, душит. Вянет растение, сохнет, бледнеет… Часто и совсем погибает…» Вместе с тем я дал читателю возможность именно в это мгновение увидеть лицо осуждаемого, как отражение характера: «Лицо его было по-прежнему бескровным, белым, точно никогда не видело солнца. Бледность кожи просвечивала даже сквозь густую щетину бороды. Только брови да подковка усов были черными, выделялись на лице отчетливо, как нарисованные». Мне было очень важно, чтобы все происходящее стояло перед глазами, — в этом, на мой взгляд, важнейший секрет художественного мастерства. Недаром Гоголь говорил, что художник видит больше, чем отдельный человек, что он видит как бы за всех.


























