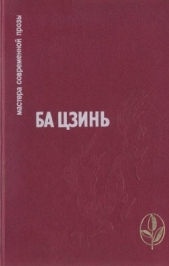Литературные зеркала
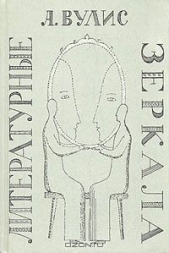
Литературные зеркала читать книгу онлайн
Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возвращаясь к условиям художественно-формальной задачи, которую решает Нарцисс, назову ее асимметричной симметрией.
Между двумя эпизодами — предыдущим и последующим — наличествует генетическая связь. И существует сходство. Скажем, эпизод с влюбленной нимфой и эпизод с влюбленным Нарциссом разрабатывают одну и ту же тему: любовь без взаимности. Так что они, эти эпизоды, были бы вполне симметричны, кабы не одно различие. Разлад между нимфой и Нарциссом теоретически преодолим. Стоит Нарциссу заключить Эхо в объятия, и инцидента как не бывало. Коллизия Нарцисса со своим отражением рассматривается в мифе как неразрешимая (хотя, вообще-то говоря, почему бы герою не образумиться?)… Но этот вопрос — вне нашей земной компетенции. И мы повторим: положение Нарцисса безвыходное.
Симметрия двух приведенных эпизодов опирается не только на генетическую связь (хотя и на нее тоже), не только на сходство (хотя и на сходство), а прежде всего на упоминавшуюся уже парность, обращающую раздельные самостоятельные события в зависимые и порознь невозможные компоненты единой истории, единого сюжета.
«Приблизительная», «невыравненная» — эти эпитеты в приложении к литературной симметрии, вроде той, что мы видим на примере Нарцисса, сосредоточивают в себе всю энергию художественного действия. Между одним элементом симметрии и другим возникает перепад напряжений, разность нервных потенциалов, которая настаивает на перестройке ситуаций, приводит образную действительность в движение. Причины влекут за собою следствия. Причины, обзаводясь следствиями, становятся наконец причинами. Это — на философском уровне. А на поэтическом, на эпическом — вершится действие.
Напрашивается вывод, что симметрия (и тяга к симметрии) — норма художественного мира, мощная закономерность, сопоставимая с энтропией тепловой смертью вселенной (а к энтропии все неизбежно катится), но противоположная энтропии, ибо утверждает торжество эстетического бессмертия.
Основываясь на принципе «приблизительной симметрии», «невыравненной симметрии», возможно прийти, по меньшей мере, к уточнению общей поэтики. Ведь в сущности всякое событийное развитие сюжета может быть понято как результат приблизительной симметрии, как ее динамическое состояние.
Являют нам симметрию мотивировка действия — и само действие. И значит, ревность, клятва отомстить, поиски равновесия, борьба за справедливость вносят свою лепту в сюжетную гармонию. Симметрия — это традиционный перекресток дорог, на котором оказывается каждый эпический герой. Симметрия — это альтернатива. Все, решительно все на свете имеет «теневые», «проектные» версии, а они соотносятся с основными по правилам приблизительной симметрии — хитрого комплекса, готового в любой момент обернуться собственной противоположностью и вопить на каждом углу: «Между тем да этим нет решительно никакой связи… Случайное совпадение!»
«За что?» и «Что мне за это будет?» — вот два вопроса, которые задает себе фаталист, когда в его жизни случается беда, когда на его биографию падает полоса мрака. Кому они, эти вопросы, адресованы? Судьбе, конечно же судьбе: у нас на виду и прошлое, и будущее, и настоящее. И фаталист ищет проекции настоящего в прошлом и будущем — иначе говоря, смотрится в зеркало этических соотношений. «Да, у меня несчастье… Я должен понять его причину… Прежде всего рациональную, научную, по цепочке каузальных зависимостей — но параллельно еще и моральную, по принципу: за что?!»
А другая ситуация обращена в будущее: человек сомневается в нравственной чистоте своего поступка. И на устах у того же фаталиста теперь: «Что мне за это будет?» И он опасливо поглядывает то вверх, то вниз: откуда последует кара? грянет ли гром с небес? земля ли разверзнется? Поступок получает мысленную проекцию на экране будущего. Можно ли сказать об этом экране, что он зеркальный, протаскивая идею симметрии туда, где она присутствует неявно? Думаю, что можно — по меньшей мере, в нашем конкретном случае, когда поводом для рассуждений служат недвусмысленные зеркальные эффекты — отражение Нарцисса, отражение в этом отражении нимфы Эхо, ее печальный удел: отражать голоса и звуки, не имея никаких личных акустических перспектив.
Так что симметрия наблюдается не только при ориентации настоящего на прошлое, но и в его выходах на будущее — в сферу оценок, наград, наказаний, осуществлении. Ее реальные воплощения и здесь асимметричны. Но скелет симметрии в них прощупывается, да что там прощупывается — буквально просвечивает насквозь: по преступлению — и наказание, как аукнется — так и откликнется, каков поп, таков и приход, мне отмщение — и аз воздам, кто не работает — тот не ест, каждому — по его теории, от каждого по возможностям — каждому по его труду.
В приведенных примерах обе стороны пропорции самобытны. При наложении они едва ли покажут одинаковый рисунок. И тем не менее и там и здесь очевиден мотив подобия, тенденция установить — нет, не равенство соизмеримость рифмующихся компонентов. Повторю еще раз: вот такая морализаторская симметрия, показывающая соизмеримость причин и следствий, вины и кары, лежит в основе драматической истории о Нарциссе и нимфе. А зеркало — образ, наилучшим образом раскрывающий эту концепцию.
Зеркалу в поэме Овидия приходится нести еще и другую нагрузку, которая лет этак на тыщу-другую позже была бы названа психологическим анализом. Нарцисс — первое в литературе, если я не ошибаюсь, знакомство героя с самим собой. Первая встреча его со своей индивидуальностью как с кем-то посторонним, чужим, другим. Первый взгляд героя на себя со стороны. Первая трансформация «я» в «он». А может быть, — «он» в «я». Первая попытка поэта передать внутренний монолог средствами внешнего диалога, то есть призвать драматургию на службу эпосу. Первые пантомимы. Первая рефлексия вообще и первая рефлексия под личиной аллегории…
Воздержусь от искушения кинуть к Нарциссовым ногам поток сознания. А ведь получилось бы эффектно. Нимфа, покровительница потока, — Нарцисс, склонившийся над водой, над потоком. Его страдания — инсценированный поток сознания, из которого, как из пены речной — коя ничем не хуже пены морской, — являет себя миру новая литература… Убедительно?
Литература — беспрерывные парадоксы восприятия. Думал ли я когда-нибудь, что в «Робинзоне Крузо» мне послышится вдруг эхо «Метаморфоз»?
Герой, как и Нарцисс, один на один с собой. Вокруг — ни души. И день за днем, ночь за ночью длится рассказ — то ли мемуары, то ли документальный репортаж от первого лица, то ли внутренний монолог, то ли исповедь. Между прочим, исповедь происходит на фоне идиллических декораций с прозрачными речушками, пресноводными источниками и т. п., каждый из которых, строго говоря, вправе претендовать на собственную нимфу. Я уже признался: меня поразило, что в рассказе, изобилующем самооценками, нет ни одного зеркала и ни одного отражения — хотя бы в тех же речушках. И вдруг я понял: Робинзон как литературный горой пребывает в полемике с Нарциссом. Он боится своего отражения, памятуя — сознательно или бессознательно, — что нельзя искусственными приемами прерывать статус одиночества, даже когда он непереносимо тягостный. Священны табу такого рода, ибо уходят корнями в физиологию и психологию. Преступив запретительный порог, их нарушитель рискует поплатиться рассудком, впасть в безумие. И несчастье Нарцисса, если перевести происшедшее с языка поэзии на прозаически-бытовое наречие, в конечном счете может быть сведено к этому грустному медицинскому диагнозу.
Робинзон стоит обеими ногами на нашей грешной — а в его обстоятельствах абсолютно безгрешной — земле. Трезвый рационалист, он чурается рефлексии, особенно же в таких крайних ее формах, как раздвоение личности. Но зеркало — это ведь первая фаза раздвоения, опасная тем, что подкрадывается исподволь, под прикрытием сугубо физического смысла, на вид безобидного, как шелест листвы на ветру. Робинзон с его обостренным чувством опасности обходится без зеркала и его эвфемических разновидностей. По-моему, даже лужи осторожно огибает футов за сто (впрочем, любители кино утверждают, что на экране он смотрится в лужи).