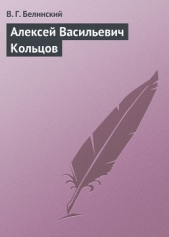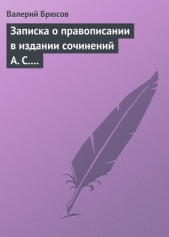Газета День Литературы # 116 (2006 4)

Газета День Литературы # 116 (2006 4) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как бы изумясь, что меня, оказывается, надо подбадривать, втягивать в беседу, — Бродский с нарочитою внимательностью наставился на меня в упор, повел плечами: "Место? Да, место... Но, э-э-э, знаете, все это х...я, Юра. Вам надо будет в перспективе в Нью-Йорк перебираться. Но — это мы тогда... э-э-э... когда-нибудь потом присмотрим..."
С грехом пополам победил я до той минуты совсем неведомого мне беса злобной застенчивости (о котором прежде знал лишь из упоминания в дневниках гр. Л.Н. Толстого) — и знакомство наше состоялось. Впрочем, меня ожидало еще одно испытание: я счел своею обязанностью выступить в совершенно чуждой мне роли Благонамеренного — и каким-то образом напомнить Бродскому, что художественные чтения, ради которых он и прибыл в Айовский Университет, должны были открыться вот уже четверть часа тому назад; а ведь еще предстояло дойти до главной аудитории. Что было мне до того, когда и с каким опозданием начнутся названные чтения? — не знаю. Но я позволил себе даже лицемерные междометия, какие-то отвратительные намеки на то, что, мол, "там ждут, а я Вас задерживаю". Это было настоящее безумие. Бродский то ли щадил меня, то ли не замечал подлого моего поведения. Кончилось тем, что за ним прислали гонца. Поэт изящно извинился и двинулся к дверям, говоря: "Они вероятно подозревают, что я их бортанул".
При сборах выяснилось, что Бродский намерен выйти на холод, под взвихренную ледяную взвесь, — в чем был, быть может, надеясь на свой форменный жилет; автомобиль, скорее всего, по здешней простоте, за ним не прислали, тем более что пешком получалось ближе. "Где же ваше пальто?" — со всею лживою светскою заботливостью воскликнул я, хотя мог бы без труда догадаться — да и догадался мгновенно, — что пальто свое Бродский оставил в университетских номерах, куда его поместили по приезде. "Забыл..." — отозвался Бродский, стоя уже у самых дверей. И, поворотясь ко мне, усмехнулся.
Есть известное высказывание о бездне смысла; поэтому последовательное перечисление всего того, что, мнится мне, означала эта усмешка, привело бы к написанию громоздкой пародии на прустианство, — да к тому же я об ней, усмешке, только что высказался. Человек угрюмый, но чувствительный, я испытал мгновенное смятение, неловкость — и безполезную острую жалость к этой будто бы самодовольной, мощной, со всех сторон подкрепленной, гарантированной жизни, вдруг оказавшейся такой непрочной, до того невечной, могущей быть прерванною в любое мгновение, хоть прямо сейчас. Видно было, что он не жилец — этот настоящий и немалый поэт, — о, ложное чудо! — определенный начальством на должность настоящего и немалого поэта. Русская история знает великое множество подобных случаев; но здесь! это был побочный эффект стяжения-растяжения, смещения-совмещения каких-то более обширных проектов; артефакт — и скоро все кончится, станет на свои места; ничтожная ошибка — которую, собственно, даже ошибкой назвать нельзя, но разве что статистическим курьезом, — будет исправлена, — да она уж давно исправлена, ее не видать больше.
...Услыхав "забыл", я виновато заметался, начал было снимать с себя куртку, пытаясь одновременно надеть ее на Бродского, приговаривая при этом, что ему простужаться никак нельзя, вредно, а я-де привык к перепадам температуры. Бродский соболезнующе отмахнулся — и вышел из дверей во внешнее пространство, где господствовала сочиненная им погода. Мне ничего не оставалось, как только отправиться следом за ним в направлении главной аудитории.
2
Я был одним из тех двух (трех?), чьи некрологические заметки первыми появились, — и с тех пор более этой материи не касался. Ею занялись другие люди, а меня хватило лишь на то, чтобы издали малодушно наблюдать за перемещениями фешенебельного гроба, где на подушке лежало, покачивалось — под слоем грима — чугунно-синее (каким нашли его в новоприобретенном для новой, семейной, жизни особняке в Бруклине) лицо, а пониже виднелась кисть руки, украшенная папежскими четками. А вокруг все горланило, болботало, запросто давало интервью, делилось мнениями и воспоминаниями, монтировало телевизионные ленты, присаживалось то в ногах, то в головах, пристраивалось то так, то этак, изгалялось — и праздновало, праздновало, праздновало. Лучше и емче всего об этом написано у В.Л. Топорова; но и он не выдерживает, забывает — с чего начал, и примерно на середине разумнейшего своего сочинения "Похороны Гулливера" ни с того ни с сего начинает с неуместною яростью, почти по-щедрински, клеймить одного почтенного пожилого стихотворца за нравственную, якобы, небезупречность и недостаточную, по убеждению автора, даровитость. Меня смутила даже самая интонация критика: он, словно пушкинская Донна Анна, возмущался: "...Здесь, при этом гробе?! Подите прочь!" — "А чё гроб-то? Чё гроб!? Умер Максим, ну и ..." — с неудовольствием, но справедливо отвечали ему другие люди.
Впрочем, статью Топорова следует знать всякому, кто интересуется новейшею историею отечественного литературного быта. В "Похоронах…" он, с необыкновенною проницательностью, первым подметил (но не назвал) господствующее чувство, которое вызывал Бродский у своего окружения. Чувство это только в малой мере могло удовлетвориться его смертью; оно было настолько жизненно-мощным и всеобъемлющим, что кончина Бродского, даже с последующим надругательством над его трупом, не признавалась им окончательною. Разумеется, поскольку объект приложения этого чувства был и вправду мертв, появилась возможность относительно безнаказанно выразить то самое, что так долго чувствовалось, и по необходимости скрывалось. Но, во-первых, безнаказанность выражения все же оставалась ограниченною, а, во-вторых, повторюсь, сила чувства была такова, что никакая смерть объекта не смогла бы принести хранителем и носителям его достаточное утешение.
Читателю, конечно, давно уж ясно, что имеется в виду чувство ненависти. Такую ненависть коллег, пожалуй, никто до Бродского в истории русской литературы не вызвал. Этою ненавистью прикровенно писаны если не все, то добрые три четверти мемуаров, оставленных современниками поэта. Результат изумителен.
Экстравагантный, обворожительный цинизм и безпредельная наглость, находчивое остроумие, высокая одаренность и меткая сообразительность, женолюбие, безцеремонность, доходящая до хамства, но иногда и добродушие к побежденному просителю; да, он не просто одарен, он талантлив, но уж не настолько, чтобы заноситься чересчур высоко; в кругу тех, с которыми он начинал свой блистательный путь, были жульманы не менее одаренные и уж во всяком случае, более образованные; но счастливые обстоятельства, в которых он оказался, и известные черты его личности, о которых мы уже говорили, позволили ему, обойдя и растолкав других достойных, составить себе это огромное, неправедное богатство, эту славу, на поддержание и на развитие которой он только и работал все эти годы; сперва мы даже радовались его успехам, благожелательно следили за ними: как-никак, он был одним из нас; но когда мы с огорчением заметили, что высокомерие (со смертельным исходом, — Ю.М.) ослепило этого даровитого автодидакта, нам пришлось осторожно высказать в своих печатных произведениях несколько горьких истин; а если надо будет — выскажем и еще; но и теперь мы помним и любим в нем того чудесного, многообещающего рыжего юношу, того веселого, компанейского завлаба, завскладом, сиротку-фотографа, которого мы знали как облупленного…
Эта необычная ненависть — как и всякая прочая ненависть — жила по усвоенным ей древним законам: чем больше одержимый ею был в свое время облагодетельствован, тем раскаленней он истлевал в своих стараниях за это благодеяние отомстить.